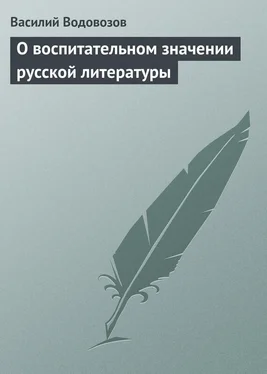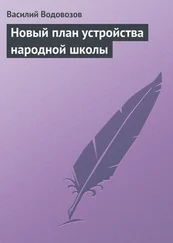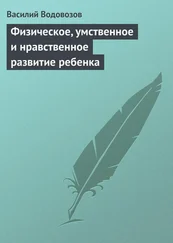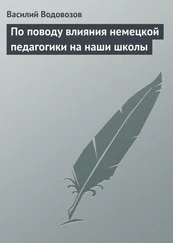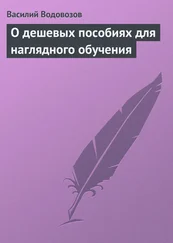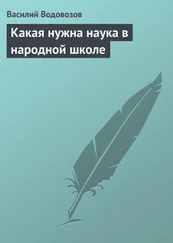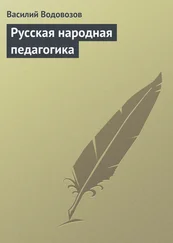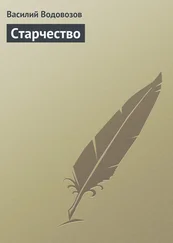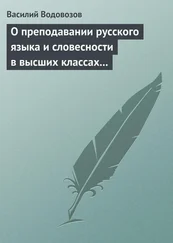Но с другой стороны, нельзя опустить без внимания и тех ступеней развития, по которым шло общество в своих стремлениях к лучшему. Веря в законность новых требований жизни, мы могли бы найти им твердую опору в старине, но не так, как приверженцы этой старины – в лишенном всякой производительности, хотя еще существующем факте. Проходя ступень за ступенью, человек, конечно, становился лучше, по мере того как больший кругозор пред ним открывался. На каждой ступени он усваивал часть истины или, лучше сказать, ту же простую истину в такой форме, которая была для него всего удобнее в данный момент развития, – в форме тем более ограниченной, чем ограниченнее это развитие. Всякий ребенок, всякий дикарь знает простое правило общежития, что вдвоем можно сделать больше, чем в одиночку; но между понятием об этом дикаря или ребенка и вполне развитого человека бесконечная разница. Выходя из своего детского состояния, человек приискивает новую, лучшую и более определенную форму для той же истины; он, например, скажет: члены семьи должны работать сообща, помогать друг другу в работе. Эта форма лучше, чем та, где человек в своем труде рассчитывает на одну случайность: в ней установлен известный союз между людьми, видно естественное побуждение к этому союзу, следовательно, находим и живительное начало труда. Форма эта живет и действует, пока не найдется другая, лучшая. В более развитом обществе интересы семьи уже бывают нераздельно связаны с интересами сословия, кружка, партии и т. д. Если бы кто-нибудь теперь, основываясь на одном семейном начале, стал доказывать, что сын обязан то же самое думать и делать, что делает его отец, то впал бы в нелепость: форма уже мертва, и вводить ее в жизнь – значит убивать самое дело. Точно так же тесная связь между членами сословия, цеха, касты в их общих интересах могла в свое время быть производительным началом, но, когда люди стали устраивать союзы на более свободных и разумных отношениях, независимо от случайностей рождения и состояния, и это начало потеряло свое прежнее значение. Но всякая новая форма в стремлении человека к истине именно потому и рождалась, что он чувствовал неудовлетворительность прежней: пока его желания были еще очень ограниченны, он довольствовался теми удобствами, какие представлял прежний порядок вещей; с развитием жизни, с более последовательным применением той или другой выработанной им идеи к делу, он находил все более, что рамки, в которых приходилось ему действовать, слишком тесны и приносят более вреда, чем пользы. Если же мы таким образом доказываем необходимость новой формы, то надо признать, что и прежде в человеке было стремление к лучшему, только путь, которым шел он, был более узок и сбивчив.
Мы просим у читателя извинения, что сделали эти вступительные объяснения, имея целью высказать свой взгляд на дело. В вопросе, нами избранном: «О воспитательном значении литературы», мы, конечно, и не могли держаться какого-либо другого способа изложения, кроме исторического. Этот способ (без сомнения, упрощенный насколько возможно) один мог бы принести плодотворные результаты и в школьном преподавании. Крайняя путаница в наших эстетических воззрениях, рабское поклонение однажды признанным авторитетам, смешное увлечение внешнею формою, за которою мы не видели содержания, – все это происходило от того, что мы в школе знакомились с литературою по жалким обрывкам из хрестоматий, и притом так, как будто бы ода Державина «На смерть князя Мещерского», рассуждение Карамзина «О любви к отечеству и народной гордости» и какие-нибудь случайные стишки Пушкина были писаны для всех веков и народов. Однако школа не могла укрыть от нас запретного плода, который потому и нравился, что был запретный, и мы, зевая на лекции, тайком держали под руководством Зеленецкого новый романчик, новую курьезную статейку и читали, читали все без разбора и без всякой руководящей мысли. Еще, вероятно, живы старички, которые помнят, как юноша, пойманный с новой поэмою Пушкина, подвергался жесточайшей каре; не более 15 лет тому назад такая же опасность грозила от чтения Гоголя. Думаем, что во многих женских заведениях и теперь еще господствует эта стыдливость к произведениям более зрелой мысли. Однако век изменился: читать Пушкина и безусловно им восхищаться считается даже похвальным, читать Гоголя по меньшей мере дозволительно; но с Белинским мы все еще не совсем можем поладить, так как сколько-нибудь толковое понимание литературных образцов, по нашим понятиям, уже ведет к вредному для юношей анализу.
Читать дальше