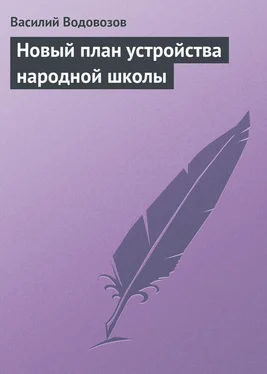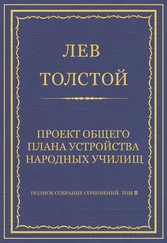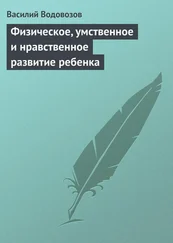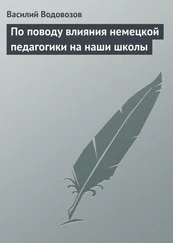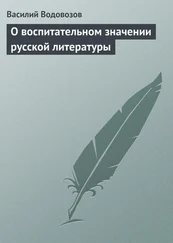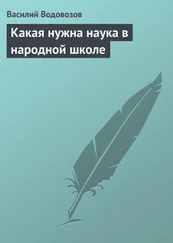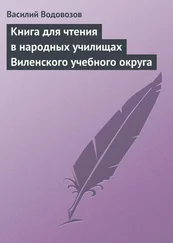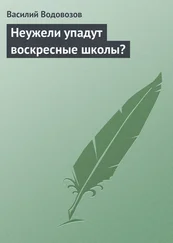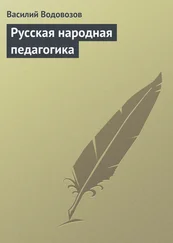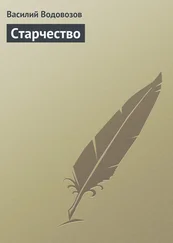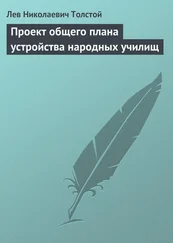96). Поступая в духовные училища, крестьянские дети могли бы со временем образовать новый разряд священников, вышедших из народа и потому понимающих его нужды. Все эти ученики, с таким усердием трудящиеся в школе, прежде всего ищут духовной пищи, божественного поучения. По рассказу автора, когда в Париже ученикам элементарных школ задана была тема: как каждый из них думал бы устроить свою жизнь, большинство поставило себе идеалом честный труд. Когда автор ту же тему задал в своей школе, то ученики также избрали те или другие образцы трудовой жизни, но для многих высшим идеалом казалось идти в монастырь, хотя многие монастырей и вовсе не видали. В школу г-на Рачинского принят был один сирота, 20-летний юноша. Он принялся заниматься с необычайным рвением и скоро стал самым полезным помощником в школе. Но вот во время восточной войны ему выпал жребий идти в солдаты. Он этому без меры обрадовался, говоря, что теперь может «омыть грехи своею кровью», и действительно «искал смерти» (с. 20, 21).
Из всего этого следует, какое значение, по мнению автора, имеет учитель в сельской школе, и лучшими учителями в ней могут быть лишь семинаристы, готовящиеся в духовное звание и основательно знающие богослужение. Но настоящий хозяин школы только священник. «Он завязывает с своею паствою те неразрывные связи, которые одни дают прочность и действительную силу его школьным поручениям. Хороший священник – душа школы; школа – якорь спасения для священника» (с. 33). «Школа должна быть в приходе и неразрывно связана с церковью» (с. 70).
В разных местах книги автор как будто выражает сочувствие тому, что лица разных сословий принимают участие в сельской школе, и не прочь допустить в ней учителей светского звания, лишь бы эти учителя не преподавали закона божия. Но в последней главе он заявляет, что все сельские школы безраздельно должны быть отданы в ведение духовенств, без всякого контроля со стороны министерства народного просвещения. Священник получает добавочное жалованье, обязываясь вместе с исполнением церковных треб и учить детей. Помощником ему служит иподьякон, окончивший курс в духовной семинарии. Создавать же особых народных учителей – значит создавать «новый класс людей, презирающих народ и ненавидимых народом» (с. 114). Но это обязательство священника учить и родителей – отдавать ему детей в обученье, как оно вяжется с тем положением, что народ совершенно независимо, помимо всяких влияний, создает свою школу, и никто в этом не должен ему препятствовать? «Свобода образования, – говорит автор, – есть начало истинное и неоспоримое». Но в России она не нужна, потому что у нас весь народ живет одною жизнью, стоит на одном просветительном начале. «Свобода образования у нас и требует, чтобы обучение народа вверено было духовенству» (с. 115, 116). В заключение автор говорит, что «все будущее России зависит от решения вопроса: дадим ли мы народу таких проводников, которые помогут ему сознательно утвердиться в преданиях и обычаях, до сих пор признаваемых им слепо, или предоставим общественному меньшинству, колеблемому всяким ветром учения и в настоящую минуту случайно настроенному противоположно исконным русским началам, вывести народ на совершенно новую дорогу, которой и конца не видно?» (с. 122, 123).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.