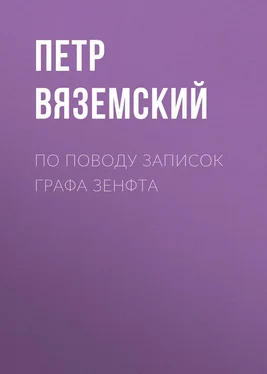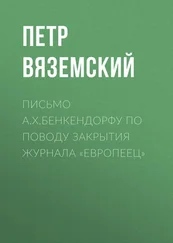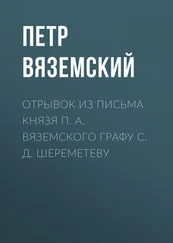А вот еще выписка из этой книги, более для нас любопытная:
«Российский император в Эрфурте, 1808 года, говорил Саксонскому королю, что он чувствуешь себя лучшим (se sent meilleur) после каждой беседы с императором Наполеоном, и что час разговора с этим великим человеком обогащает его более, нежели десять лет опытности».
Точно ли в таких словах выразил Александр мысль свою, неизвестно. Можно даже, с некоторою достоверностью, предполагать, что сказанные им слова были умереннее и нотою ниже здесь пересказанных; но сущность, но смысл и духе их очень правдоподобны. Время Эрфуртского свидания было временем высшего увлечения Александра и вероятно искренних сочувствий его к Наполеону.
Известно, что при драматическом представлении у Наполеона в Эрфурте, devant on parterre de rois (как говорили в то время), когда актер произнес стих:
L'amitèé d'un grand homme est un bienfait des dieux,
Император Александр, сидевший рядом с Наполеоном, схватил руку его и крепко пожал ее.
Как ни подозревали Александра в прирожденной и благоприобретенной хитрости, как ни был он, в полном значению слова, себе на уме, но нет повода сомневаться в искренности движения его и обаяния, которому он покорялся. Это обаяние даже очень понятно и естественно: Наполеон был из малого числа гениальных и светлых умов, когда страсть честолюбия не омрачала его. Все приближенные к нему согласовались в том, что в обхождении, в речи его было много обольстительного, особенно когда нужно было ему кого-нибудь приголубить и околдовать. Нет сомнения, что все заряды, все чары умственного кокетства его были обращены на Александра. Многое в характере Наполеона еще не успело тогда выясниться. Ненасытный честолюбец еще не вполне и не до наготы сорвал с себя личину свою. Очень натурально, что он обольстил младшего собеседника своего, впечатлительного и несколько склонного к идеализации. Прибавим, впрочем мимоходом, что Эрфуртские впечатления могли и не закоренеть в Александре; но они и не закоренились. Характер Александра был не из одного слоя образован: в нем оттенков было много. За порою обаяния ногда следовать пора отрезвления; за порою доверчивости – пора не только охлаждения, но и мнительности. Все это человеческое, а особенно царское. Царю трудно быть постоянно идеалистом: из области надоблачной или безоблачной, в которой духе его витаете, сами же люди снизводят его на землю и часто переиначивают этот духе в школе опыта, дознания, разочарования, а иногда и раскаяния в излишней доверчивости.
В Императоре Александре могло скрываться еще другое побуждение, которое тогда влекло его к Наполеону. Мы уже говорили о строе ума его, несколько романическом. Но этот ум имел еще другое отпечаток, вследствие первоначального воспитания его, под руководством Лагарпа: а именно, отпечаток слегка демократический. Известно, что Государь мало обольщался блеском присвоенный рождению и званию. В Наполеоне, вероятно, нравился ему человек, который власти ее наследствовал, а приобрел ее и царствование сам собою, завоевал их силою ума и воли, ценою подвигов, едва ли в истории не беспримерных. С этой точки зрения Александр мог ставить Наполеона в воображении и сочувствии своем на подножие, которое превышало все окружающее и все знакомое.
Впрочем, не один Александр в семействе своем был временно под очарованием Наполеона. Помню, как за обедом у Великой Княгини Екатерины Павловны, в Твери, возник оживленный спор между Великим Князем Константином Павловичем и Карамзиным. Первый говорил с восторгом о Наполеоне и с одушевлением превозносил гениальная качества его; другой, с хладнокровием и строгостью историка, судил о нем более умеренно и отклонял излишние похвалы, ему возносимые. Спор длился. Наконец Карамзин – как сам в том после сознался – утомленный этими прениями, сказал, что за многие подвиги и успехи свои Наполеон часто и преимущественно был обязан ошибкам противников своих. Эти слова не совсем были уместны и царедворцы; но они сорвались с утомленного языка. Карамзин спохватился, но поздно: сказанного слова не воротишь. Впрочем, спор кончился мирно и благополучно, то есть каждая сторона осталась при своем мнении.
Были приверженцы Наполеону и в правительственной русской среде: например канцлер граф Николай Петрович Румянцев и Сперанский. Разумеется, тот и другой полагали, что для России выгоднее было держаться политики его, нежели прекословить ей и раздражать Наполеона. Карамзин, как мы видели, был не поклонник Наполеона, но также не желал разрыва с ним, то есть войны. Он опасался ее для благоденствия и целости России. Историк не угадал 1812-го года, но и не обязан был угадывать его. История есть наука не предположений и не гаданий: она преимущественно наука опытности и преподающая уроки ее правительствам и народам.
Читать дальше