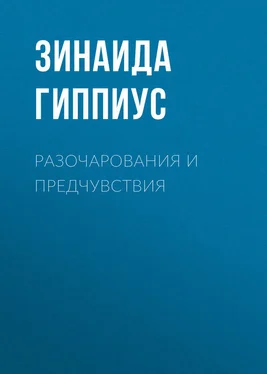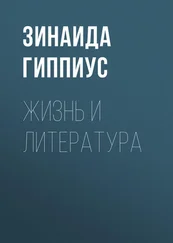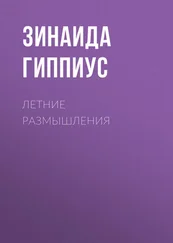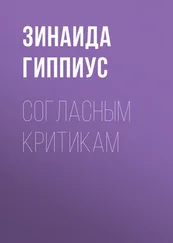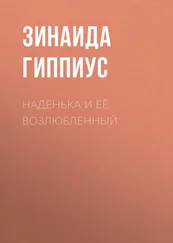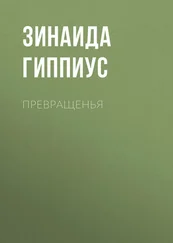Зинаида Гиппиус
Разочарования и предчувствия
Давно, в каких-то заметках о русской литературе, я говорил, что у нас, собственно, литературы нет и не было, а были только литераторы. Это верно, хотя и не совсем. С первого взгляда, действительно, кажется, что «литературы» в западном смысле, то есть определенного, связного, культурного течения, в России не было. Вырастали отдельные личности; и кто расцветал вопреки окружающей среде – должен был иметь силы громадные. Достоевский умел сделаться Достоевским, но надо было, чтоб он умел еще выдержать каторгу. Сколько бы мы ни забирались «в глубь истории» литературы – мы не найдем ни одного мало-мальски видного писателя (ни одного!), которому не приходилось бы тратить силы на борьбу вот с этими «каторжными» обстоятельствами. Эмпирика, конечно; но ведь чего-нибудь же она стоит, особенно если это «помимо всего прочего»…
О писателях менее видных я и не говорю; они падали, как трава под косой, не успевая и подумать о расцвете. Между тем без них, без хорошей середины, нет и «литературы» в настоящем ее смысле. Пирамиды, рассеянные в пустыне, – не город, как бы ни были пирамиды высоки.
Но хорошая середина у нас все-таки имелась, – из уцелевших. Только уцелели они при условии полного смирения, полной невидности. Вот с первого-то взгляда и кажется, что их совсем нет, что нет и не было общего, совокупного, движения, – не было «литературы». Нужно вглядеться, нужно заглянуть под серые доски подполья, чтобы увидеть невидное, – нашу хотя бы волю к созданию литературы, нашу надежду, что она явится, – такая же, как «у всех».
После знаменитого года, когда была объявлена, между прочим, «свобода» и литературе, объявлено, что не возбраняется отныне собираться, общаться и желать культурности, многие вообразили, что у нас началась заправская «литература». Вид был, действительно, такой, будто она и впрямь началась. Конечно, только вид. Не могла она сразу, по объявлению, взять да и начаться. Даже если б объявления оказались подлинными, даже если б действительно позволили «общаться, собираться и глядеть в сторону культуры», то ведь это лишь позволение направить волю к созданию, до создания еще далеко. Еще предстояла бы долгая работа.
А теперь и она не совершается. Приоткрыли ящик, выпустили было хаос и, не дожидаясь, что из него образуется, – назад. Он лезет струйками из-под неплотной крышки, растворяется в воздухе и только его портит.
В общих же чертах все осталось по-прежнему, все, как и в древние годы. Только вместо настоящих богов – идолы, которых во мгновение возносят и в следующее свергают, да вместо невидности старых средних работников – кишенье литературщины, невежественной и самомнительной.
Не бывает времени, когда бы не было талантливых людей. Талантливые люди пишут хорошие вещи, так что и хорошие вещи всегда есть. Но в смысле какого-нибудь перелома, или хоть перегиба, или уклона нового – последний год не дал нам ничего, почти ничего. Оглядываясь назад, я не могу вспомнить, чем год начался, когда начался. Точно все еще длится прошлый, даже позапрошлый. Перелились они в этот едва заметно. При внимании видишь, что кое-какие перемены есть, но медленные, тихие, особенно по сравнению с годами более дальними. Хулиганство, например, осело, – но только самое уличное, крикливое. Думаю, впрочем, что оно вогнано внутрь. А внутри эта болезнь еще опаснее.
Минувший год – не год исполнений и даже не год надежд, а, вернее всего, предчувствий. Есть в нем, – очень смутные, – предчувствия новых каких-то слов, или нового их сочетания, и новых пониманий… Но об этом после. Предчувствие близких разочарований ярче. Уже готовы дрова для печки, где будут «жечь то, чему поклонялись».
Помню, давно-давно, был вечерний пир в редакции одного начинавшегося толстого журнала. Этот пир внезапно превратился в овацию Алексею Максимовичу Пешкову. Молчаливый застенчивый писатель, в серенькой блузе, скромно ютился где-то на конце стола, ничего не ожидая. И вдруг! Речь за речью – о нем. Пили за его здоровье, приветствовали «восходящее светило». Непривычный человек растерялся. Закружилась голова от первых похвал и от многочисленных тостов; сбегая с пятого этажа вслед за уходившими гостями, он все твердил: «Да, да! Конечно, я талантлив… Но все-таки… нельзя же уж так…»
Впоследствии ему пришлось испытать гораздо большее, но голова не кружилась, и забыл он вот эти свои верные точные слова, которых не следовало бы забывать ни ему, ни другим: «Конечно, талантлив… Но нельзя же так». Его сделали идолом; неудивительно, что свергли: главное свойство идолов быть непременно поверженными. В отличие от бога – поверженный идол уже не идол, а просто ничто, или хуже, чем ничто.
Читать дальше