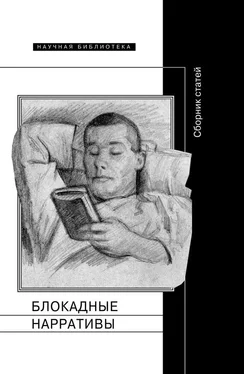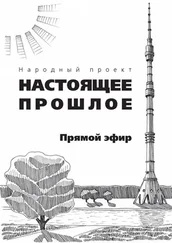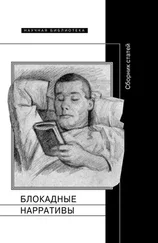Постепенно любой труд в блокадном Ленинграде приобрел ореол героического, касался ли он собственно работы на оборонных заводах, научных исследований или написания художественных произведений. Ольга Берггольц писала в «Февральском дневнике»:
И если чем-нибудь могу гордиться,
то, как и все друзья мои вокруг,
горжусь, что до сих пор могу трудиться,
не складывая ослабевших рук.
Горжусь, что в эти дни, как никогда,
мы знали вдохновение труда [87] Берггольц О . Февральский дневник // Она же. Стихи и поэмы. Л., 1979. С. 211.
.
В произведениях военных лет герой должен был выполнить план поставок оружия на фронт, ремонтировать военные суда в срок, спасать раненых, писать научные работы и т. д. Параллельно в связи с катастрофическим ухудшением жизни населения зимой и весной 1941/42 года любая деятельность, включая рутину стояния в очередях, покупку хлеба, заботы о близких и даже само страдание от голода, воспринимается как героическая.
Как писала Вера Инбер в «Пулковском меридиане», «пусть даже наши горести и беды / Являются источником победы» [88] Инбер В . Пулковский меридиан // Она же. Стихи и поэмы. М., 1957. С. 187.
. Эта поэма, написанная в 1942 году, не скрывала от читателя страшной картины жизни людей, при этом описания блокадных будней были лишь прологом для рассказа о стойкости и героизме блокадного человека: о студентах, продолжавших несмотря на холод готовиться к зачетам, о профессорах, ведущих исследования, о музыкантах, не прекращавших репетиции, о военных и т. д. Таким же образом был построен нарратив о героическом поведении ленинградцев в книге у Адамовича и Гранина: описывая повседневные заботы горожан и условия, в которых они жили, авторы видели героизм в «сохранении человеческого лица» в нечеловеческих условиях – рутина выживания приобретала значение подвига. «Для того чтобы оценить величие подвига ленинградцев, – гласила рецензия на «Блокадную книгу», – нужно представить себе прежде всего всю меру их лишений и утрат» [89] Эльяшевич А . Горизонтали и вертикали. Л., 1984. С. 80.
.
Таким образом, выживание человека в блокаду в послевоенной литературе героизировалось и обретало смысл общественно важного дела, борьбы. Однако такая форма рассказа о блокадном героизме была возможна только в условиях создания реалистичной картины разразившейся в Ленинграде катастрофы, что не всегда отвечало идеологическому заказу. Авторам, избегавшим разговора о тяжелых блокадных условиях, было крайне трудно объяснить, в чем состоял подвиг ленинградцев. Поэтому они, как правило, прибегали к классическим схемам героического нарратива, рассказывая читателям о «привычных подвигах» прифронтовых местностей – тушении пожаров, спасении детей, поимке шпионов, выполнении трудового плана и т. д.
Эта дилемма, вставшая перед авторами, писавшими о блокаде, лишь отчасти отразилась в текстах, рассчитанных на детей, – в них подвиг оставался необходимым условием рассказа. Как и остальная литература военного времени, детские журналы молчали о реальном положении дел в Ленинграда. Поэтому блокадные школьники, образы которых оказывались запечатлены в детских журналах в годы войны, не отличались от остальных советских детей, живших по всей стране. Так, Всеволод Вишневский в очерке «Комсомольцы Ленинграда» в 1943 году рассказывал читателю о том, как школьники ловили ракетчиков на крышах и чердаках, боролись с зажигательными бомбами, заготавливали дрова, выращивали овощи, чинили белье, клеили конверты для писем, обходили квартиры с целью учета оставшихся без присмотра детей [90] Вишневский В . Комсомольцы Ленинграда // Костер. 1943. № 7. С. 2–3.
. Вишневский комбинировал разные виды «героического»: активного, предполагающего подвиг, и «рутинного», повествующего об ожидаемом от детей поведении в блокаду (какой уж тут героизм – выращивать овощи?). При этом привилегия ловить шпионов и дежурить на крышах отводилась преимущественно мальчикам-старшеклассникам – девочки и ученики младших классов в литературе о блокаде Ленинграда героизировались в меньшей степени. Недостаток «героического» в немногочисленных детских произведениях о блокаде времен войны компенсировался большим количеством послевоенных детей-героев. Так, например, персонажи трилогии о подростках Германа Матвеева помогали разоблачить шпионов [91] Матвеев Г. И. Зеленые цепочки. М., 1945; Он же . Тайна схватка. М., 1948; Он же . Тарантул. Алма-Ата, 1958.
; герой повести Юрия Помозова тушил зажигательные бомбы на крышах, совершал трудовые подвиги, работая на заводе, спас умирающего друга и разоблачил врага [92] Помозов Ю . Блокадная юность. Л., 1989.
; блокадные дети из ранних произведений Александра Крестинского, Веры Карасевой и стихов Юрия Воронова все как один соответствовали героическим персонажам соцреализма, напоминая гайдаровского Тимура и молодогвардейцев Фадеева [93] Крестинский А. А . Мальчики из блокады: Рассказы и повесть. Л., 1983; Карасева В. Е . Кирюшка. Киев, 1965; Воронов Ю . Блокада: Книга стихов. М., 1982.
:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу