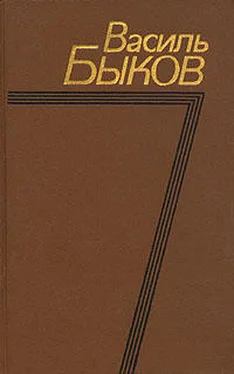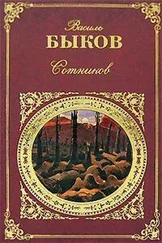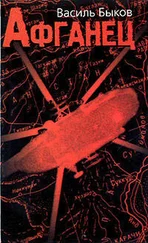Взгляды погибших могут выражать мало или не выражать ничего, но мы, волею судьбы или случая выжившие, ставшие более чем вдвое старше и, надо полагать, мудрее, мы обязаны увидеть в них то сокровенное, что так дорого было для них и в равной степени важно для нас сегодня.
Прежде всего мы обязаны разглядеть их молчаливую просьбу помнить, не забыть в смене лет их имена и их дело, поведать потомкам о смысле их жизни и особенно — их безвременной смерти. Давно известно, сколь обманчива и несовершенна человеческая память, безжалостно размываемая временем, по крупицам уносящим в забвение сначала второстепенное, менее значительное и яркое, а затем и существенное. Не зафиксированная в документах, не осмысленная искусством история и исторический опыт людей очень быстро вытесняются из памяти вереницей текущих дел и событий и навсегда утрачиваются из духовной сокровищницы народа. В годы войны, когда человеческая жизнь нередко была лишь средством к великой цели, не суть важным казалось имя человека, упавшего рядом, достаточно было знать, что это свой, и единственной заботой живых было вовремя предать земле павшего. Второпях, в горячке боев мы ограничивались словами известной эпитафии на фанерной табличке под такой же фанерной звездой; иногда лишь по размерам насыпи на братской могиле можно было приблизительно судить о количестве в ней похороненных. Но вот впоследствии стало понятно, что нельзя человеку без имени — живому, а тем более павшему. Усилиями общественности и следопытов теперь восстановлены имена даже на самых глухих захоронениях, и в этом заключен справедливый и глубоко гуманистический смысл. Всякий рожденный под солнцем должен быть отличим от себе подобного, иметь собственное лицо; лежащий же в братской могиле тем более. Ведь имя на обелиске — это последнее, что остается от бойца в жизни, и в нем единственная его безмолвная просьба к живым — не забудьте!
Погибшие не напомнят, но мы-то, живые, понимаем, как нам нужно знать о них по возможности больше. У каждого из них была малая их родина, были родители, были их пусть мало значащие ныне для нас дела на заводе, в колхозе, связанные с ними малые и большие заботы. Вспомнить о них — долг живущих друзей, однополчан, земляков. На фронте нередко случалось, что в трагической обстановке окружения, тяжелых боев, прорыва были совершены подвиги, но ни совершивших их, ни свидетелей не осталось в живых, и мы ничего не знаем, а может, никогда и не узнаем о безвестных героях. Но уж если кто-то остался жить, пройдя через муки плена, госпитальные страдания, может, не вернувшись более не только в свою часть, но и в действующую армию, было бы непростительно, если бы он не поведал людям о подвиге, свидетелем которого оказался. Неважно, что память не уберегла имя героя, или тот был совершенно незнакомый боец — после войны сохранились архивы, подшивки газет, документы, не убывает энергии у молодых следопытов, они распутают самые запутанные клубки прошлого.
Во сколько бы лиц погибших вы ни вглядывались, мне кажется, редко в котором из них так или иначе не прочтется немой, как укор, вопрос к нам, живущим: а вы как? Какие вы нынче? Те, что уцелели и так долго живете после нашей, кровавой войны? Великое множество оттенков и смысла заключено в этом невысказанном вопросе, и для меня лично он — самый трудный и самый обязывающий. При всей его неопределенности он самый взыскующий и категоричный. А что он подразумевается, этот вопрос, я не только чувствую, но знаю наверняка: сам на их месте обратился бы к живым прежде всего именно с этим вопросом. Он самый существенный из всего, что может связать во времени мертвых с живыми.
Время, к сожалению, безжалостно не только к человеческой памяти, столь же немилосердно оно ко всему, что составляет сложную область человеческих отношений. Прекрасная вещь фронтовое братство, замечательно, если оно сбереглось от разрушительного воздействия лет, сохранилось поныне. Но известно немало случаев и другого рода, когда некогда прочная фронтовая дружба не выдерживает испытания временем, рушится под натиском неблагоприятных для нее обстоятельств, иссякает, хиреет. Впрочем, все это объяснимо: со временем меняемся мы сами, необязательно становимся хуже, — становимся иными, и то прежнее, что связывало нас на фронте, что нам казалось нетленным, дорогим и важным, более не кажется таковым. Очевидно, тут нет ничего предосудительного, такова человеческая природа. Но как важно, чтобы это изменение, если уж оно неизбежно, происходило бы в сторону улучшения, нравственного совершенствования, а не к ухудшению — очерствлению, гипертрофии себялюбия, раздражающей неудовлетворенности окружающим. Отстоять от разрушительного воздействия времени духовное «Я» человека, сберечь идеалы нашей фронтовой молодости, до конца дней остаться верными духу товарищества, дружбы, сохранить готовность в любой момент ринуться в бой за правое дело — разве не этот безмолвный призыв сквозит во взглядах наших оставшихся вечно молодыми товарищей?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу