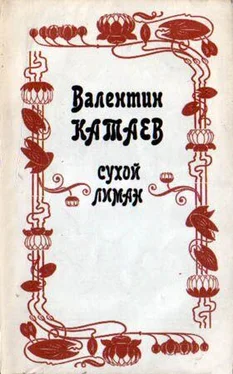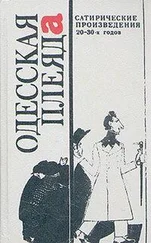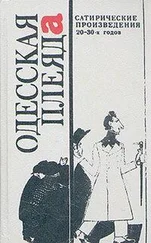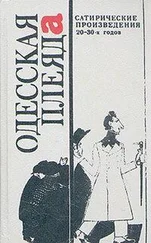Валентин Катаев
Обоюдный старичок
Я постоянно перечитываю Толстого. Никак не могу с ним расстаться. Конечно, речь идет не только о его великих творениях, называть которые нет необходимости. Сегодня, да и всегда, они у всех на устах. О них, кажется, все уже сказано. Мне хочется говорить о Толстом малоизвестном или, точнее, менее известном широкому читателю. В самом деле: мне приходилось слышать от людей весьма образованных, что они никогда не читали или уже не помнят, например, рассказы Толстого «Записки сумасшедшего» или «Божеское и человеческое», в которых Толстой достигает, по-моему, своей вершины.
Читаешь и поражаешься, насколько он был остросовременен и вместе с тем насколько был впереди своего времени, хотя и призывал порой человечество как бы вернуться вспять, к первобытной жизни. Поражает его гениальная противоречивость. Он весь был словно заряжен отрицательным электричеством. Его сила была в постоянном отрицании. И это постоянное отрицание часто приводило его к диалектической форме отрицания, вследствие чего он приходил в противоречие с самим собой и даже делался как бы антитолстовцем. Эта двойственность отражалась даже в его внешности. Достаточно посмотреть на его старческие портреты. Кто это? Добрый старик, тульский мужик в скорбной рубахе, с белой бородой или воплощенный образ грозы, очищающей воздух? Говорят, что однажды в веселую минуту он лукаво сказал о себе самом: «Я старичок обоюдный». И в самом деле.
Если бы ему, например, сказали, что он политический революционер, можно себе представить, как бы он возмутился. Во всех своих высказываниях он начисто отрицал революцию. Он взывал к рабочим, чтобы они отказались от революции. Он считал революцию делом безнравственным. Однако ни один из русских да и иностранных писателей не разрушал своими произведениями с такой поразительной силой все институты ненавистного ему русского царизма, заодно и западного империализма, как Лев Толстой, не уставая твердивший на весь мир о том, что европейские и американские капиталисты, вооруженные новейшими средствами истребления и уничтожения, беззастенчиво грабят слабые народы Африки и Азии, устанавливая там колониальный деспотизм. С такой силой бороться с империализмом мог только страстный пропагандист передовых общественных идей.
Если бы Толстому сказали, что он атеист, возможно, он бы категорически отверг такое предположение. Однако никто из современных ему писателей, за исключением, может быть, Чехова, не был более атеистом, чем Толстой, не веривший в загробную жизнь, хотя он и прикрывал свой атеизм самыми разнообразными вуалями мистицизма, вплоть до учения дао и буддизма. Для того чтобы почувствовать скрытый заряд толстовского атеизма, достаточно перечесть «Холстомера» – самое, на мой взгляд, материалистическое творение мировой художественной литературы…
Если бы Толстому сказали, что он революционер в искусстве, то он вряд ли бы согласился. Ведь Толстой открыто, страстно выступал против многих новаторских веяний современной ему мировой литературы, и в особенности против французских декадентов Бодлера, Вердена и других. Он приводит стихотворение Верлена по-французски и комментирует: «Как это в медном небе живет и умирает луна и как это снег блестит как песок? Все это уже не только непонятно, но под предлогом передачи настроения – набор неверных сравнений и слов» – но в то же время у него самого в «Анне Карениной» Левин видит на рассвете ущербную луну, похожую на кусок ртути. Берусь подобрать у Толстого десятки таких импрессионистских, чтобы не сказать – модернистских, подробностей. Совершенно ясно, что Толстой-художник жил совсем по другим законам, чем Толстой-эстетик. Теперь нам уже совершенно ясно, что ни один из русских, а может быть, и мировых писателей не совершил такой революции в области языка, в области формы, как Толстой. Каждая его большая и малая вещь всегда новаторская, небывалая по силе изображения. Вспомним хотя бы описание смертной казни в упомянутом мной рассказе «Божеское и человеческое». Вот из него отрывки:
«Во все время переезда сознание того, что ожидает его, не нарушало спокойно-торжественного настроения Светлогуба.
Только когда колесница подъехала к виселице и его свели с нее, и он увидел столбы с перекладиной и слегка качавшейся на ней от ветра веревкой, он почувствовал как будто физический удар в сердце… Вслед за священником, колебля доски помоста, быстрыми шагами подошел к Свет-логубу среднего возраста человек с покатыми плечами и мускулистыми руками, в пиджаке сверх русской рубахи. Человек этот, быстро оглянув Светлогуба, совсем близко подошел к нему и, обдав его неприятным запахом вина и пота, схватил его цепкими пальцами за руки выше кисти и, сжав их так, что стало больно, загнул их ему за спину и туго завязал… Лицо палача было самое обыкновенное лицо русского рабочего человека, не злое, но сосредоточенное, какое бывает у людей, старающихся как можно точнее исполнить нужное и сложное дело.
Читать дальше