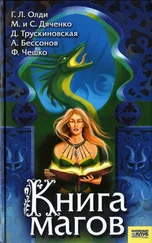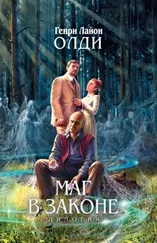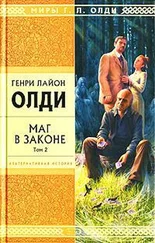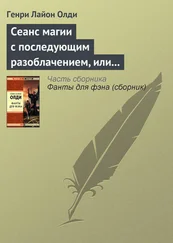Умники, констатирует оппонент, съевший зубы на эльфах, собаку – на звездолетах, и печень – на конвентах. Семь пядей во лбу, и каждая винтом завита. Ишь, заморского Х. с ругательной фамилией приплели! Ближе надо быть к народу. Иначе надо мерять. Вот он, универсальный критерий, по которому кандидатов на грядущие фантастические премии заталкивают в прокрустово ложе номинаций: рассказ – объемом от нуля до двух авторских листов, повесть – от двух до восьми, роман – свыше восьми. Объем замерили, и баста. Мало ли, что А. Пушкин назвал "Евгения Онегина" романом! Меньше восьми листов? – даже зная, что листаж в поэзии считается иначе, чем в прозе, берем в руки калькулятор, умножаем число строк на число страниц, делим полученную цифру на семьсот… Ай да Пушкин, ай да сукин сын! Тянул-тянул, и не вытянул. Чуток меньше погонных… простите, романных восьми метров выходит. Берем все собрания сочинений Пушкина, зачеркиваем «роман» и пишем поверх "повесть в стихах". Или лучше: «поэма». Привычней глазу.
Что говорите? Поэма – это "Мертвые души" Гоголя? Ну, классики, ну, удружили…
В труде "Теория литературных жанров" есть такой пассаж: "В 1888-м году Ги де Мопассан опубликовал роман "Пьер и Жан", которому он предпослал предисловие, озаглавленное "О романе". Речь в нем идет о том, что же такое роман, как жанр, и сколь он многообразен. Писатель задается вопросом: "Если "Дон Кихот" роман, то роман ли «Западня»? Можно ли провести сравнение между "Тремя мушкетерами" Дюма, "Госпожой Бовари" Флобера, "Господином де Камор" О. Фейе и «Жерминалем» Золя? Сегодня можно было бы добавить и романы двадцатого века, такие, как «Улисс» Джойса, «Процесс» Кафки, "Мастер и Маргарита" М. Булгакова, "Тихий Дон" М. Шолохова, «Лолита» В. Набокова… Мопассан, однако, был прав, видя во всех перечисленных романах единство авторской позиции, которая заключается в постижении глубокого и скрытого смысла событий, возникающих на основе наблюдений и размышлений над тем, что происходит в мире. Этот критерий жанра актуален и сегодня."
Вот и нам хотелось бы почесать пером в затылке: если в качестве примера взять ряд фантастических романов – «Эфиоп» Б. Штерна, "Черный Баламут" Г. Л. Олди, "Солдаты Вавилона" А. Лазарчука, "Война за Асгард" К. Бенедиктова, «Армагед-дом» М. и С. Дяченко, и так далее – что между ними общего? Да, все это романы. Со всем набором признаков именно романа, как жанра:
– Полифоничность (читай, большое количество сюжетообразующих линий повествования). Предвосхищая встречный вопрос, отвечаем сразу: большое – это значит, больше двух.
– Принцип «многоязычия». По М. Бахтину, монологическая точка зрения на мир есть отдельный социальный язык – "язык крестьянства", "язык поколения", "язык молитвы", "язык политического дня" и т. п. – каждый из которых представляет отдельный способ осмысления мира. Роман – это победа «диалога» над «монологом», смешивающая несколько таких языков, несколько точек зрения на мир, так сказать, в одном флаконе; роман – "воплощенная стихия взаимоосвещения языков."
– Расширенное пространство текста (географическое, хронологическое, интеллектуальное, социальное, эстетическое и пр.).
– Усложненная фактура повествования (отступления лирические, исторические, пейзажные, психологические и др.), то есть "глубокий и скрытый смысл событий на основе наблюдений и размышлений за происходящим в мире".
Итак, первая точка соприкосновения найдена. Романы? – да. Но фантастика, впопыхах названная жанром, трещит по швам, пытаясь вместить абсолютно разное содержание и не менее различную форму этих книг. Трещит именно как жанр; в ином качестве она чудесно вместит еще сотню разнообразнейших романов. Тогда берем матушку нашу фантастику и режем пополам, на две общепринятые широкой массой части: фэнтези и "сайенс фикшн". Что есть фэнтези, кровная половинка? – ах, опять жанр… Продолжим вивисекцию. Кромсаем каждую часть матушки нашей на более мелкие ломтики: киберпанк, космическая опера, альтернативная история, криптоистория, литературная сказка, мистика, хоррор, гротеск, сатирическая «небывальщина», юмористическая…
Что есть каждая частица? – опять жанр?!
Какая-то амеба получается: как ни режь, опять целая амеба…
Или, если угодно, гидра.
Ситуация напоминает происхождение словесного паразита в виде слова «стёб». Раздуваясь и разевая смрадную пасть, он поглотил тонкости и оттенки, краски и смыслы, заключив в зловонную утробу все: юмор и сатиру, насмешку и пародию, сарказм и иронию, памфлет и эпиграмму… Куда ни ткни, что ни напиши, тебе гордо хихикают в ответ: стёб! стёб! стёб!!!
Читать дальше