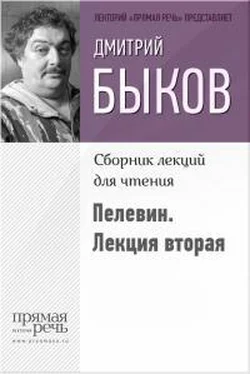– Бытовой вопрос. А вы точно знаете, что Пелевин в «Эксмо» в рабстве? Или Виктор Олегович не продается?
– Нет, во-первых, я этого не говорил. Во-вторых, я этого не знаю. А в-третьих, мне это не важно. Писатель же пишет не обязательно для того, чтобы ему в «Эксмо» платили. Писатель занимается аутотерапией. Ему очень плохо или, наоборот, очень хорошо, и он старается этим поделиться, чтобы не лопнуть. Если за это еще платят деньги, то это большая удача.
У Юлия Черсановича Кима замечательные были слова: «Я пишу свои песенки лёгко, // не хочу я их в муках рожать, // а что деньги дают как за доблестный труд, // так не буду же я возражать!» (смех в зале) Мне кажется, случай Пелевина отчасти этому сродни. Во всяком случае, больше, чем баблос, ему доставляет удовольствие тот факт, что в сообществе РУ.ПЕЛЕВИН к его текстам относятся как к священным. Как к священным книгам оборотня. Это серьезное достижение.
– Планируете ли вы лекции по советской литературе 20–40 годов? Может быть, писатели второго плана? Ну, например, тот же Симонов.
– Симонов не второго ряда. Я вот, например, про Фурманова бы с удовольствием прочел.
– Еще Соболева и Вишневского.
– Соболева боже упаси! Потому что хуже «Капитального ремонта» я просто не знаю книги. Хотя есть хуже, безусловно. Донцова хуже.
Вишневский интересен. Знаете, в каком аспекте интересен? Ведь «Оптимистическая трагедия» – это классическая символистская драма. Она начинается монологом к залу, который дословно копирует два главных монолога из символистских драм. Первый – «Смотрите и слушайте, пришедшие сюда для забавы и смеха» из «Жизни человека» Леонида Андреева и второй, конечно, «люди, львы, орлы и куропатки» Чехова.
Можно и так: «Вот вы, люди, львы, орлы и куропатки, пришедшие сюда для забавы и смеха, смотрите и слушайте, вот пройдет перед вами жизнь женщины-комиссара с ее темным началом и темным концом». Это просто один в один Андреев и Чехов. И он вообще символист, Вишневский. Его любимый писатель был Джойс. Он считал, что надо технологии потока сознания насаждать в русской литературе. И не случайно пародия Александра Архангельского называется «Искатели Джемчуга Джойса». И Вишневский был вообще любитель авангарда. При этом он был, как все символисты, отвратительно самоупоенный тип. Он писал сотруднику «Знамени», который его редактировал, подробнейшие записки с датами и документировал свою жизнь, свои распоряжения, вел подробнейший дневник. Он относился к себе с той же серьезностью, с какой все символисты к своему жизнетворчеству. Если представить при этом, что это был маленький, апоплексический, короткий, толстый военный моряк, автор пьесы «Незабываемый 1919-й», то возникает абсолютно гротескная фигура. Я бы с удовольствием по Вишневскому прошелся.
– Я бы еще Бабеля хотел назвать…
– Бабель – великий писатель, про Бабеля уже столько сделано, что… А вот Вишневский – хорошая тема. Вот это интересно, вот это вы мне подсказали мысль. Тем более, что и сам он был такой Вишневский, такой бордовый, налитой, такая вишня русской литературы… Начисто лишенный вкуса, но не лишенный при этом таланта. Это довольно часто бывает.
Разобрать «Оптимистическую трагедию» было бы очень хорошо. Ведь из нее некоторые реплики ушли все-таки в речь. «Давайте, товарищ, женимся!», «Тратить время на половые проблемы преступно!» «Вот я думаю: “Почему – такая баба – и не моя?!“» Сколько раз я с помощью этой реплики (смех в зале) объяснялся в любви! То есть проговаривал то, что невозможно сказать. Ну как вот сказать: «Поехали ко мне!»? Это стыдно… А так вот: «Почему – такая баба – и не моя?» – вы тем самым делаете ей большой комплимент, и при этом она понимает, что если она не поедет с вами, то она уже не «такая» баба. (смех в зале)
Вишневский, товарищи! Да, «Пессимистическая комедия», да.
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу