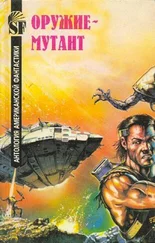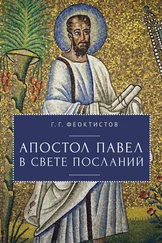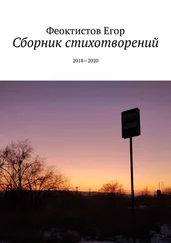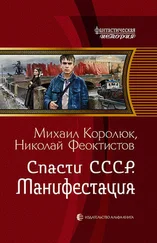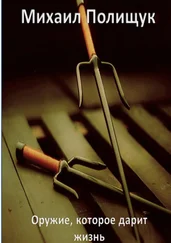В США, как известно, объявили о прекращении производства плутония. Приняв это к сведению, не стоит поддаваться самообману: не из высоких моральных соображений решились американцы на такой шаг — попросту возникло „затоваривание“ этим радиоактивным продуктом. Аналогичная ситуация и в России. Но в силу объективных и субъективных причин несколько промышленных реакторов по наработке плутония у нас всё ещё функционируют.
К сказанному добавим, что, помимо плутония, в бомбах используют тяжёлый изотоп водорода — тритий, который также получают в реакторах. Однако с тритием проще. Период полураспада плутония — 24 тысячи лет, для трития он „всего лишь“ 12,6 года. Прекращение производства трития автоматически ведёт к исчезновению вместе с ним наиболее опасных видов водородного оружия — по расчётам, за 50 лет арсеналы автоматически сократятся в двадцать раз.
* * *
В своё время я твёрдо усвоил: нельзя в оценках, равно как и в полемике, пользоваться только двумя красками — белой и чёрной. При углублённом рассмотрении всегда обнаруживаются промежуточные тона, нюансы. И всё же есть ситуации, в которых однозначное решение необходимо.
Когда речь идёт о международной инспекции ядерных объектов, чрезвычайно важно, чтобы она была всеобъемлющей, касалась как ядерных, так и неядерных стран. Достаточно сделать исключение в отношении хотя бы одного реактора — и сразу подрывается идея, разрушается стройная система контроля, в равной мере приемлемая для всех участников. Любой прецедент подобного рода обязательно вызовет возражения — почему кому-то можно, а нам нельзя? И круг исключений будет нарастать.
Вывод мой однозначен: необходим, без всяких исключений, международный контроль за объектами атомной промышленности. В этом случае, одновременно с широким развитием АЭС, возникают гарантии для полного и безвозвратного уничтожения военных ядерных материалов.
Такова диалектика: сорок с лишним лет мы развивали реакторостроение, чтобы создавать плутоний. Теперь пришло время строить новые реакторы, чтобы производить электричество и одновременно уничтожать плутоний, постепенно сводя к нулю и ядерные арсеналы, и саму угрозу ядерной войны.
9. Договор трещит по швам. Как удержать «оружие сдерживания»
Проблема распространения ядерного оружия возникла вместе с его появлением и исчезнет только вместе с ним. Невозможно представить себе положение, при котором ядерное оружие будет принадлежностью нескольких ядерных государств и недоступно остальному миру. Рано или поздно мировое сообщество вынуждено будет согласиться с тем, что либо ядерное вооружение есть, но тогда повсеместно, либо его нет вовсе. Сложившееся ныне положение нелогично, недемократично, неустойчиво. Процесс распространения остановить нельзя — слишком много соблазнов и путей для того, чтобы обойти существующие ограничения.
Обратимся за аргументами к нашей недавней истории.
Уже в 1940 году советская разведка имела директиву, нацеливавшую её внимание на „урановый проект“ Англии. Затем, в годы войны, внимание переключилось на Манхэттенский проект, на Лос-Аламос.
В 1942 году в Чикаго Энрико Ферми запустил ядерный реактор, в Москве об этом выдающемся достижении узнали из телеграммы резидента Понтекорво: „Итальянский мореплаватель достиг Нового Света“.
Сегодня общеизвестна роль Фукса, который по идейным соображениям пошёл на сближение с советскими разведывательными органами. Уже никто не оспаривает того факта, что первая советская бомба была сделана по американским чертежам. Факт примечательный и тщательно скрываемый до самого последнего времени. Я о нём узнал только в 1991 году, хотя всю жизнь трудился в учреждениях Минсредмаша.
В связи с вышедшей — сначала за рубежом, а затем и в России — книгой генерала КГБ Судоплатова развернулась довольно широкая дискуссия об участии некоторых видных учёных в советском атомном проекте. В разных источниках, у разных авторов назывались разные имена: Оппенгеймер, Бор, Сциллард, итальянцы Ферми, Понтекорво. Мне приходилось делать доклад в Италии на эту тему — итальянцы категорически настаивают на том, чтобы фамилии Энрико Ферми не было в приведённом списке. Впрочем, и в отношении остальных много неясного, недоговорённого. Что отчасти и побудило меня высказаться по этому поводу.
В середине 40-х годов вокруг СССР сложилась исключительно доброжелательная международная обстановка — главным образом из-за многочисленных жертв и страданий, понесённых нашей страной и её народами во время войны. Часть интеллигенции в самом деле верила, что мы строим новое прогрессивное общество. А кроме того, среди учёных-ядерщиков существовало убеждение, что монополизм во владении ядерным оружием резко нарушает баланс сил, и прежде всего — во взаимоотношениях Советского Союза с союзниками по антигитлеровской коалиции. В таком развитии событий они видели чисто военную опасность гегемонизма США и прямое предательство союзнических интересов.
Читать дальше

![Эдмонд Гамильтон - Звездный волк [= Оружие из прошлого, Галактическое оружие]](/books/25063/edmond-gamilton-zvezdnyj-volk-oruzhie-iz-proshlo-thumb.webp)