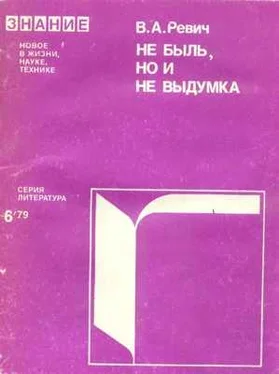Нарсим уже, наверно, устал восторгаться нравами лунатистов, весьма напоминающих щербатовских офирцев, как вдруг появился новый герой из местных — Квалбоко, который совершил подобное же путешествие на Землю, и оттертому в сторону Нарсиму остается только комментировать его рассказы. Историю человечества, начиная с Адама и Евы, Квалбоко излагает не самым лестным для нас образом, в духе «Персидских писем» Монтескье. «Зависть, злоба, честолюбие, гордость, зверство, суть наследственные побуждения, коими провождаются все их деяния». Нарсим пытается вступиться за попранную людскую честь, но получает резкий отпор от Квалбоко. И совершенно понапрасну, потому что, как вскоре выясняется, золотое царство на Земле все же есть, а именно, Россия, управляемая Екатериной. (До этого места перед нами была фантастическая сатира, и вдруг тон повествования резко изменился и стал медоточивым.) И все-то там благоденствуют, захлебывается от восторга Квалбоко, все трудятся, все счастливы, следов войны нет и в помине, там не знают о казнях и религиозных притеснениях, так как на престоле мы видим «самую премудрость…». «Ее царствие есть образец, с коего долженствует копировать себя владетелям» — таким панегириком Екатерине заканчивается эта странная повесть. Замечу, кстати, что она была напечатана в журнале «Собеседник любителей российского слова», скромным редактором которого была сама императрица (и княгиня Е. Дашкова). Как тонко заметил Державин от имени Фелицы. т. е. Екатерины II:
Не воспрещу я стихотворцам
Писать и чепуху, и лесть…
(Впрочем, во многом «Собеседник…» был очень интересным изданием, ему посвящена одна из первых крупных работ Добролюбова.) Конечно, Левшин не первый и не последний, кто славословил власть имущих, но тут автора явно занесло, он не знает удержу. Левшин, как характеризует его современная «Литературная энциклопедия», совершил эволюцию от вольтерьянства и социального утопизма к верноподданническому национализму. Любопытно, что этот поворот как бы смоделирован в рамках одной повести.
Фантастико-утопические элементы встречались еще у многих литераторов конца XVIII века. «Почти во всех романах, критикующих несостоятельность государственных порядков, имеется картина такого уголка на земной поверхности, где все обстоит благополучно. Обыкновенно, такой счастливой страной является та, в которой форма правления патриархальна», — пишет исследователь литературы XVIII века В. Сиповский. Писатели охотно рисовали образы хороших, образцовых царей и еще более охотно нападали на придворных, льстивых и корыстолюбивых вельмож, которые отгораживают царей от народа. Конечно, сейчас все эти произведения выглядят в наших глазах как занятные порой исторические раритеты. Стоит, однако, обратить внимание, что с первых своих шагов фантастика понадобилась для воплощения политических взглядов и нанесения сатирических ударов.
Продолжая поиски ранней русской фантастики, мы найдем маленькое произведение, опубликованное в 1824 году в альманахе «Мнемозина» и называющееся «Земля безглавцев». Оно принадлежало перу замечательного поэта и человека, активного участника декабрьского восстания Вильгельма Кюхельбекера. В «Земле безглавцев» мы снова отправляемся на Луну. Автор не мудрствует лукаво и не придумывает никаких «научных» объяснений. Увидел в Париже воздушный шар, и так как никто не решался принять любезного приглашения его владельца, то «я вспомнил наше родимое небось, поручил себя богу и отправился со своим спутником искать похождений и счастия!» И заносит их на Луну в страну Акефалию, в столицу многочисленного народа безглавцев Акардион, который весь был «выстроен из ископаемого леденца; его обмывала река Лимонад, изливающаяся в Щербетное озеро…»
Несмотря на этот, казалось бы, легкомысленный стиль, автор вовсе не собирается «хохмить», как бы мы сейчас сказали. Он пишет недвусмысленную, резкую, как пощечина, сатиру на окружающую его российскую действительность. Вот, например: «Большая часть жителей сей страны без голов, более половины — без сердца. Зажиточные родители к новородившемся младенцам приставляют наемников, которые до двадцатилетнего их возраста подпиливают им шею и стараются вытравить сердце; они в Акефалии называются воспитателями. Редкая выя может устоять против их усилий; редкое сердце вооружено на них довольно крепкой грудью».
Достается и российской словесности: тамошние поэты доказывают, что дважды два пять, в то время как «наши русские поэты выбрали предмет, который не в пример богаче: с семнадцати лет у нас начинают рассказывать про свою отцветшую молодость». Вывод рассказа: «Безглавцы омерзели мне по своему притворству: они беспрестанно твердят о головах, которых не имеют, о доброте своих сердец, которыми гнушаются…»
Читать дальше