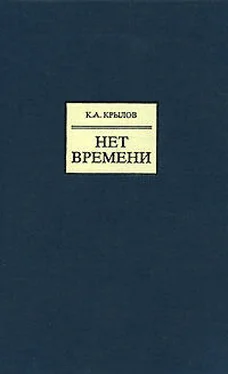Второе обстоятельство — то, что в центре этого единственного удачного и получившего признание проекта стоит фигура, с точки зрения просвещённой западной публики совершенно невзрачная. Пушкин на Западе не воспринимается вообще: как бы ни старался стареющий Набоков показать ленивым студентам, что в похождениях Евгения можно найти хоть что-то интересное, однако ж, ничего, кроме вялого любопытства он пробудить так и не смог. Дело тут, разумеется, отнюдь не в «недопонимании»: Запад, падкий на экзотику, прилежно разбирал японские иероглифы, арабскую вязь и вавилонскую клинопись и добросовестно находил во всём этом поводы для неумеренных восторгов. Пушкин был как раз слишком понятен, понятен именно как средненький виршеплёт, компилятор, лишенный даже тени оригинальности. Русские, однако, упрямо держались за Пушкина, как за национальную святыню, даже несмотря на неодобрение парижан, чего ни по какому другому поводу они не делали никогда: мнение Просвещённой Европы в конечном итоге всегда оказывалось для русских решающим. В этом смысле Great Russian Literature — это ещё и результат того, что русские, единственный раз за всю историю, всё-таки упёрлись и не капитулировали перед насмешками Запада над своими вкусами и пристрастиями.
Разумеется, феномен Пушкина является отнюдь не «эстетическим явлением». Скажем резче — эстетика тут вообще ни при чём. Вряд ли кто-нибудь сейчас со слезами на глазах читает «Маленькие трагедии». Пушкин занял нишу «золотой классики», то есть книг не для сиюминутного чтения и вообще не чтения «удовольствия ради», а по обязанности, во имя ознакомления с некими, как сейчас принято выражаться, культурными константами. Какими именно — это, разумеется, вопрос интересный, но, как правило, внятное описание оных обнаруживается только постфактум, когда уже сами константы проблематизируются и превращаются в переменные.
Разумеется, я вовсе не пытаюсь претендовать на то, чтобы разгадать «пушкинскую загадку» или хотя бы даже сколько-нибудь пополнить необъятную пушкиниану (среди томов каковой можно найти презанимательные сочинения: например, гершензоновскую «Мудрость Пушкина», где «наше всё» сравнивается с Гераклитом). Тем не менее некоторые заметы на изрядно исписанных полях пушкинского ПСС могут оказаться небезынтересными для публики.
Итак, приступим, и прежде всего выберем тему. Разумеется, уж коли мы начали свой разговор с рассуждений о «центральности» Пушкина, то, как нетрудно догадаться, и у Пушкина нас будет интересовать прежде всего «центр». Обнаружить таковой нетрудно. Если Пушкин — это своего рода «стольный град» русской литературы, то её «Кремль» (то есть центр самого «Пушкина») — это «Евгений Онегин». Почему именно «Онегин» — тоже понятно: это произведение, стоящее у самого Пушкина особняком, созданное на взлёте мастерства, шокирующе новаторский эксперимент, давший начало длинной традиции, это пересечение всех жанров, которыми владел Пушкин (от стихосложения до историографии), но при этом ставшее «школьным» (то есть, собственно, «каноническим»)… это, наконец, просто достаточно длинный текст.
Тем интереснее тот факт, что содержание этого романа в стихах, мягко говоря, сильно уступает любому «фаусту—гёте». Впрочем, слово «уступает» тут неуместно, поскольку наводит на мысль о возможности какого-то сравнения. В то время как сравнивать просто нечего. Ну сами посудите: там — глубины и высоты национального духа, эротика, мистика, ирония, «в начале было Дело» и «остановись, мгновенье», эссе о ценных бумагах, богословие, политэкономия, изобилие стихотворных размеров, наконец — и, last not least, эффектная концовка: «Фауст» был-таки торжественно завершён, хотя это взяло изрядно времени и трудов. В то время как у Пушкина — ничего из вышеперечисленного. Вообще ничего, кроме несостоявшейся провинциальной интрижки.
Стоп. Мы сказали очень интересное слово: несостоявшейся. То есть речь идёт о событии, которого не случилось, но вокруг которого, однако же, закручено всё повествование. Но ведь «Онегин» весь состоит из описаний несостоявшихся событий. В конце концов, с одного такого неслучившегося события он и начинается.
Все мы помним про дядю, который самых честных правил и который не в шутку занемог. Услужливая память разворачивает дальше — его пример другим наука… но Боже мой, какая скука… но в чём она? Оказывается в том, что… — и дальше следует выразительное описание унылой жизни в обществе безнадёжно больного родственника, от которого ожидается наследство (классический сюжет). Однако вотще: дядя-то, оказывается, умер, никаких сцен ухода за умирающим нет и не предвидится.
Читать дальше