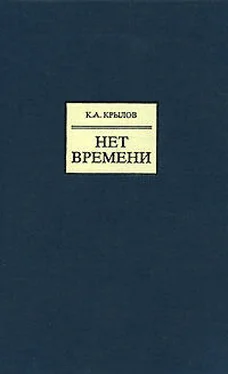Единственным серьёзным недостатком книги следует признать отсутствие пресловутой речи в общем корпусе текстов. Судя по этому документу, Хайдеггер, если даже и считал себя «национал-социалистом», то представлял себе его весьма своеобразно. Чего стоит, например, такой пассаж: «Сущностная воля корпорации профессоров должна пробудиться и укрепиться, достигнув простоты и широты видения о сущности науки. Сущностная воля корпорации студентов должна вознестись до величайшей ясности и дисциплины знания, должна, требуя и определяя, встроить свое совидение народа и его государства в сущность науки. Та и другая воля обязаны вызывать друг друга на борьбу». Похоже, молодой ректор действительно не вполне отдавал себе отчёт, с кем связался, — или талантливо юродствовал. Последнее возможно, но маловероятно, — ибо, говоря что бы то ни было, Хайдеггер никогда не забывал о своём грядущем бытии-в-культуре, о немецком бессмертии, воплощаемом в череде профессоров, которые будут комментировать каждое слово «изучаемого объекта», потом комментировать комментарии, etc.
Этот замечательный человеческий документ приведён в книге на стр. 362–368.
Хайдеггер, правда, немного играет в «гэндальфа» и время от времени живёт в шварцвальдских горах в маленьком домике, но все его настоящие интересы сосредоточены на университетской жизни. Ясперс, в свою очередь, несколько пережимает с внеуниверситетской социальной активностью — но, опять же, не всерьёз. Кто же знал, что послевоенная ситуация заставит каждого из них стать тем, во что они игрались: одного — «мудрецом из пещеры», никогда не посещающим людные сборища (в том числе философские конгрессы), другого — газетным философом, политическим активистом, автором сочинений типа «Куда движется ФРГ»? Однако оба чувствуют нелепость и неудобство своего положения — и каждый по-своему переживает исторический крах Немецкого Университета, в рамках которого только и может реализоваться «подлинное философствование». Разумеется, оба преподают, но каждый понимает, что это всё-таки «не то». В поздних письмах это не обсуждается (слишком болезненно), но иногда проскальзывает — возможно, это была единственная тема, которая равно затрагивала обоих.
В этом смысле Кафка — всего лишь один из комментаторов Канта.
Скандал с Ницше был вызван, в первую очередь, тем обстоятельством, что он добровольно оставил службу: сие не лезло ни в какие ворота.
Неуклюжий перевод этого слова как «постав» оставим на совести переводчика.
Надо отметить, что и любовь, и вражда — по крайней мере, в литературе — силы притяжения, а не отталкивания. Вражда отнюдь не разделяет врагов — напротив, чем сильнее вражда, тем сильнее желание «сойтись», хотя бы для того, чтобы победит ненавистного врага, унизить его, отнять у него все ценное, наконец, прикончить (то есть «занять его место на земле», что означает конечное слияние с ним). Неудивительно, что два вечных сюжета мировой литературы — путешествия влюбленного, ищущего пропавшую возлюбленную, и преследование мстителем ненавистного врага — так похожи, что легко сливаются в один сюжет: погоня за похищенной любимой и коварным похитителем (причем еще неизвестно, что важнее: вернуть коханую или примерно наказать супостата). Но нельзя написать роман о взаимном отвращении — сколь бы часто оно не встречалось в реальной жизни, это «не сюжет». Литература почти не интересуется тем, что разделяет людей. Любая книга — так или иначе — одиссея, потому что любая книга в конечном итоге посвящена встрече и возвращению (неважно, состоявшемуся или нет); расставание — всего лишь необходимое условие, прием, но ни в коем случае не тема.
Именно поэтому сознательное переворачивание этого отношения производит столь сильное впечатление. У Александра Дюма Диана де Меридор убивает виновных в смерти Бюсси с помощью «аква тофана» именно потому, что Дюма неодобрительно относится к мести и пытается показать нам, что любая попытка мщения, даже праведного, неизбежно приводит ко злу. Не случайно тема яда возникает (хотя и не используется) и в «Графе Монте-Кристо» — то есть в книге, специально посвященной мщению. Напротив, у Шекспира, считающего отмщение моральным долгом (пусть и очень тяжелым), «все правильно»: зло пользуется ядом, добро вооружено шпагой.
Читать дальше