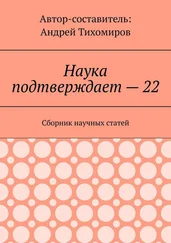На одном свитке написаны стихи, на другом — замечательное исследование о Серафиме Саровском. На третьем — странное словопроизводство: будто бы «пошло то. что пошло» (предполагается «пошло в ход»).
Но все, что бы ни писал Мережковский, странным каким-то сияет светом. Мы ждем, позовет ли он нас на свою башню, сойдет ли к нам со своей подзорной трубой; иногда нам кажется, что башня его рассыплется, как рассыпаются «фараоновы змеи», когда к ним прикасаешься пальцем.
Может быть, снимется он со своей башни и улетит; может быть, уже летел (почем мы знаем, кто там сверху нас окликает). Может быть, Мережковский уже замерз там, за окнами, а разговаривает с нами ветер: ветер свевает его. листки, а мы думаем, что это нам посылает грамоты наш заоблачный звездочет. Нет, это не так.
I
«Хочется сказать: „это он о себе“. Нет, мои милые современники, это о вас» («Мелкий бес». Предисловие автора).
— «Чур-чурашки, чурки-болвашки, веда-таракашки. Чур меня. Чур, чур, чур. Чур-перечур-расчур» («Мелкий бес», стр. 59).
Жизнь, по Сологубу, — это капли, продаваемые подозрительным армянином: «Каплю выпьешь — фунт убудет. Капля — фунт. Капля — руб. Считай капли, считай рубли» («Истлевающие личины», 77). Это он про себя?
— «Нет, мои милые современники, это про вас». Э, да и нужен же на него заговор: какой барин нашелся!
Чур-чурашки, чурки-болвашки, веди-таракашки. Чур меня. Чур меня. Чур, чур, чур. Чур-перечур-расчур.
Господин автор, что с вами?
«Что вы, поменьше как будто?.. Да и похудели… Вниз растет… Стремится к минимуму… По-настоящему его бы в участок… „Баринок“! И чиновники смотрят на него с суровым осуждением… Как осмелились идти вы против видов правительства?.. Уже он свободно ходит под столом… Стыд и срам!» («Истлевающие личины»). Грозит кулачком смеющимся ребятам: «Нет, мои милые современники, это я о вас».
Чур-чур-чур!
«Смешался с тучей пляшущих в солнечном луче пылинок» («Истлевающие личины»). Исчез, может быть, с мелкими, как пылинки, смешался с таракашками нежитями: еще, пожалуй, в суп заползет.
«Чур-чурашки. Чурки-болвашки, веди-таракашки». Вы успокоились теперь, милые современники? Решим же «по сношению с Академией Наук… считать его выбывшим за границу» («Истлевающие личины»).
II
Нет, не стряхнешь Сологуба с действительности русской. Плотью он связан с ней и кровью. В Чехове начался, в Сологубе заканчивается реализм нашей литературы. Гоголь из глубин символизма вычертил формулу реализма: он — альфа его. Из глубин реализма Сологуб вычертил формулы своей фантастики: недотыкомку, ёлкича и др.; он — омега реализма. Чехов оказался внутренним, но тайным врагом реализма, оставаясь реалистом. Сологуб поднял знамя открытого восстания в недрах реализма. Как-то странно соприкоснулся он тут с великим Гоголем, начиная с жуткого смеха, которым обхохотал Россию от древнего города Мстиславля до стен Петрограда и далее — до богоспасаемого Сапожка. Персонаж Сологуба всегда из провинции, и страхи его героев из Сапожка: баран заблеял, недотыкомка выскочила из-под комода, Мицкевич подмигнул со стены — ведь все это ужасы, смущающие смертный сон обывателя города Сапожка. Сологуб — незабываемый изобразитель сапожковских ужасов. Обыватель из Сапожка предается сну (не после ли гуся с капустой?); при этом он думает, что предается практическим занятиям по буддизму: изучает состояния Нирваны, смерти, небытия; не забудем, что добрая половина обитателей глухой провинции — бессознательные буддисты: сидят на корточках перед темным, пустым углом. Сологуб доказал, что и, переселяясь в столицы, они привозят с собой темный угол: доказал, что сумма городов Российской империи равняется сумме Сапожков. В этом смысле и пространства великой страны нашей суть огромнейший Сапожок.
Так соприкоснулся с Гоголем этот своеобразный антипод Гоголя. И слог Сологуба носит в себе иные черты гоголевского слога: отчеканенный, простой и сложный одновременно; только лирический пафос Гоголя, начертавший яркие такие страницы, превращается у Сологуба в пафос сурового величия и строгости. Далеко не всегда поднимается Сологуб в слоге до себя самого: грязные пятна неряшливого отношения к словесности встречают нас на всем пространстве его романов. Не всегда покрыты они словесной нивой; много сухого, потоптанного жнивья; много торчащих метел полынных. Но с иных мест его творений много уносим мы богатств в житницу нашей словесности. Часто фразы его — колосья, полные зерен; нет пустых слов: что ни слово, то тяжелое зерно тяжелого его слога, пышного в своей тяжести, простого в своем структурном единообразии.
Читать дальше