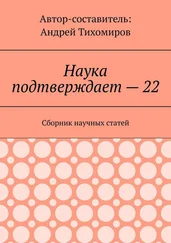Конец XIX столетия поставил, на очередь ряд новых вопросов. Особенно радикальна постановка вопросов, связанных с искусством, моралью, религией.
На поверхности литературной жизни переоценка ценностей недавнего прошлого выразилась в бунте против узкого материализма и натурализма; вернее, она выразилась в бунте против ограниченной догматики натуралистических школ. Но вовсе не к рационализму, ни даже к идеализму призывала новая литературная школа. Были в ней, правда, идеалистические вспышки; было в некоторых вопросах согласие с классиками; еще более в новой школе искусства пронеслось дыхание романтизма. Тем не менее некоторые признаки, запечатлевшиеся и в форме, и в образах творчества, одинаково не подходили ни к традициям романтических, ни к традициям натуралистических школ. Новое течение в искусстве, в отличие от прежних течений, определяли как символизм.
Были попытки вывести символизм из классиков; наоборот: были попытки отыскать символизм в романтизме; новое искусство определяли то как неоклассицизм, то как неоромантизм, то как неореализм. Правда, черты реализма, классицизма и романтизма мы встречаем у иных представителей символизма; правда и то, что лучшие произведения современных художников верны лучшим традициям старого доброго времени. Но если бы мы это признали, мы стерли бы грань, отделяющую современное искусство от прошлого; будучи преемственно все тем же искусством, оно одушевлено сознанием какого-то непереступаемого рубежа между нами и недавней эпохой; оно — символ кризиса миросозерцании; этот кризис глубок; и мы смутно предчувствуем, что стоим на границе двух больших периодов развития человечества.
Современное искусство обращено к будущему, но это будущее в нас таится; мы подслушиваем в себе трепет нового человека; и мы подслушиваем в себе смерть и разложение; мы — мертвецы, разлагающие старую жизнь, но мы же — еще не рожденные к новой жизни; наша душа чревата будущим: вырождение и возрождение в ней борются.
Только в тот момент, когда мы выдвинем вопрос о жизни и смерти человечества во всей его неумолимой жестокости, когда поставим его в центр наших жизненных устремлений, когда скажем твердое «да» возможной жизни или смерти, — только в этот момент мы приблизимся к тому, что движет новым искусством: содержание символов его — или окончательная победа над смертью возрожденного человечества, или беспросветная тьма, разложение, смерть.
И лучшие представители современного искусства — решительные предвозвестники то жизни, то смерти, одни из них могут бороться с жизнью, другие со смертью. Но и те, и другие ненавидят благополучную середину.
В этом пункте они резке отделяются от предшествующей эпохи. Всякое «тем не менее» или «хотя — однако», и более всего «с одной стороны — с другой стороны» они отрицают. Над ними звучит категорический императив о неминуемой смерти или жизненного творчества.
Мы живем в мире сумерек, ни свет, ни тьма — серый полумрак; бессолнечный день или не вовсе черная ночь. Образ победной жизни, как и образ гибели, одинаково не содержится в содержании нашего сознания.
Воссоздавая полноту жизни или полноту смерти, современный художник создает символ; то, что заставляет сгущать краски, создавать небывалые жизненные комбинации, и есть категорический императив борьбы за будущее (смерть или жизнь). Людям серединных переживаний такое отношение к действительности кажется нереальным; они не ощущают, что вопрос о том, «быть или не быть человечеству», реален. Внутренний реализм в отношении к жизни у них отсутствует; не способны они в душе своей подслушать голоса будущего. Они — иллюзионисты.
Этот внутренний иллюзионизм естественно у них уживается с серединным течением окружающей их жизни, где еще не звучит человечеству ни решительное «да», ни решительное «нет», не понимают они, что причины, слагающие поверхность жизни, вне этой поверхности: post factum принимают они за prius.
Вот почему не способны подчас они осознать иллюзионизм своего представления о реальности. Вот почему они упрекают символистов в оторванности от жизни: под жизнью они разумеют не мрак, не свет, а тусклые сумерки.
Вот почему символизм не противоречит подлинному реализму: и вместе с тем реализм окружающей видимости символисты рассматривают как отражение некоей возможной полноты. Окружающая жизнь есть бледное отражение борьбы жизненных сил человеческих с роком. Символизм углубляет либо мрак, либо свет: возможности превращает он в подлинности: наделяет их бытием. Вместе с тем в символизме художник превращается в определенного борца (за жизнь либо смерть). Возможность полноты не реальна только от причин, противоборствующих ее воплощению. Художник воплощает в образе полноту жизни или смерти; художник не может не видоизменить самый образ видимости; ведь в образе том жизнь и смерть соединены; видоизмененный образ есть символ.
Читать дальше