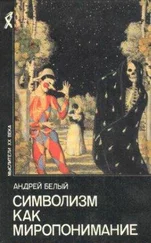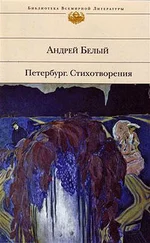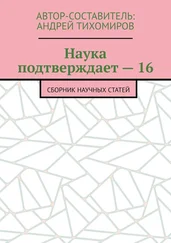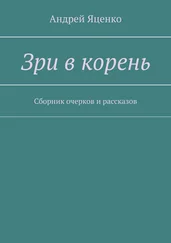Была своеобразная ценность в этом созерцании. Пессимизм, возведенный в принцип, притуплял жало разочарований. Человек, отходивший от жизни, грустно задумывался, очарованный величием собственного трагизма. В бездеятельности собирались потраченные силы. Подавленная личность начинала расправлять свои крылья. В незаметной эволюции от пассивности к активности, от пессимизма к трагизму звучал нам первый трепет, звучало первое биение этих крыл.
Когда убаюканный видениями засыпает, это — видимость смерти. Это — подкрепляющий силы сон. Таким сонным забытьем, чреватым последствиями, было увлечение европейского общества философским пессимизмом. И вот когда мрак закрыл им глаза — этим увлеченным, — кто-то из них выкрикнул странно прозвучавшие слова: «Время сократического человека прошло: увенчайте плющом чело ваше, возьмите в руки тирсы и не дивитесь, если тигр и пантера, ластясь, лягут у ваших ног, ибо вы должны стать свободными. Вы должны сопровождать дионисианское торжественное шествие от Инда до Греции. Вооружитесь на жестокую борьбу, но верьте в чудеса вашего Бога» («Происхождение трагедии»). Необычайно раздались эти слова. Кто понял их? И, в воздухе быть может, с этого момента стали носиться предчувствия будущих откровений. Стал ветерок обдувать спящих. Тронулись неподвижно-манящие, сонно-сладкие грезы. Заря зажглась.
Пессимизм оказался горнилом, сжигающим пошлость. Шопенгауэр различием форм познания наглядного, созерцательного, интуитивного от познания мыслящего, отвлеченного и предпочтением, отданным первой форме, не только обосновал в противовес методу логическому метод символический, но и предоставил возможность в будущем придать все значение этому методу. Если философия всецело подчинена отвлеченному познанию, Шопенгауэр — последний философ. В Шопенгауэре начало конца философии. Был вскрыт источник сверкающих сущностей — и побледнели воздушные замки мысли.
Сведение на нет вопросов философских не указывает еще на победу научного позитивизма. Перед нами не здание, увенчанное куполом, а только многоэтажные стены без крыши, обезображенные лесами.
Столетия верили в возможность научно-философского решения вопросов бытия. Сколько титанов воздвигало твердыню, чтобы взобраться на нее. Или времена борьбы между богами и титанами опять повторились? Или опять они низвержены в Тартар? Где оно — наше прошлое? Почему земля заколебалась под нами? Откуда эти невольные слезы? Дорогие имена, дорогие заблуждения! Точно сидишь в уютной хижине рыбака перед отправлением в путь. Море шумит. Ветер и ливень глаза слепят. В последний раз перед старым рыбаком, в последний пожимаешь мозолистую руку. Уйдешь и не вернешься обратно. В путь пора.
Шопенгауэр — вершина, на которую восходят встающие над сонностью жизни. Он — острие, через которое перекрещиваются два направления, огневеющие вечной жизненностью. Скрещиваются, чтобы сейчас же разойтись опять. Это — философский рационализм, переходящий в религиозно отвлеченный пантеизм и эмпиризм, преображенный в инивидуализм мистически-пророческого оттенка. Таковы оба направления по ту сторону критицизма, на границе с символизмом.
Ницше и Гартман прошли сквозь Шопенгауэра. В нем соприкоснулись. И разошлись безвозвратно.
Исследуя начало видимости (представление), Ницше ему противополагает оргиастическое начало, разрушающее иллюзию (волю). Слияние этих начал в трагизме уничтожает шопенгауэровскую антиномию между волей и представлением в личном начале человека. Бессознательное, по Гартману, лежит глубоко в природе человека. Оно никогда не ошибается. В нем В. Соловьев видит узел между Богом и человеком. В бессознательном мы тоже имеем слияние метафизической воли с миром явлений. Исторический процесс, по Гартману, не бесцелен. Его цель — обнаружение всеединого духа. Ницше выдвигает целью исторической эволюции проявление всеединой личности, сверхчеловека. Вопрос же о проявлении в личности всеединого духа указывает истории путь к богочеловечеству. Владимир Соловьев, определяя церковь как богочеловеческую организацию, стремится к примирению между наукой, философией и религией. Приблизительно подобны же задачи теософии, с отдельными положениями которой можно спорить. С общим руслом ее приходится считаться как с вполне установившимся направлением, недавно возрожденным и пустившим корни.
Познание формально-логическое, описав круг, в своем развитии дало свободу символизму. Познание, совершающееся в процессе символизации, есть познание гениальное, по Шопенгауэру. Вслед за кризисом мысли искусство неизбежно должно было выступить на смену философии, как руководящий маяк человечества.
Читать дальше