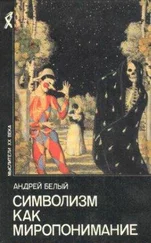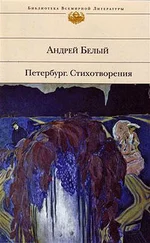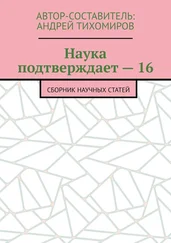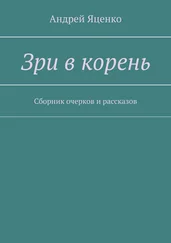Но вглядываясь пристальнее в реализм ибсеновских драм, мы вскрываем в них мощную идеологическую струю; детерминизм этих драм предопределен идеологией самого Ибсена; центр этой идеологии — кризис сознания; но сама идеология Ибсена развертывается перед нами не прямо, а доведением до абсурда миросозерцании, господствовавших еще так недавно среди нас; нас начинает поражать власть идей в драмах Ибсена; герои его одержимы тем или иным миросозерцанием; они стремятся практически воплотить миросозерцание в жизнь; они стремятся самую свою жизнь вывести из миросозерцания; они превращаются в ходячие образы и подобия исповедуемых доктрин; на этой почве часто подготовляется конфликт миросозерцания с жизнью; они падают жертвами этого конфликта; в «Столпах общества» и «Докторе Штокмане» доводится до абсурда правда для многих, в «Гедде Габлер» — правда для одной; коллективизм, как и индивидуализм, как отвлеченные принципы, воплощенные в жизнь, — суть ложь; но и компромисс между одним и многими, по Ибсену, невозможен. В «Бранде» изображена трагедия отвлеченной морали любви; казалось бы, вывод: мораль — есть любовь; но какая? Любовь ко всем? Но она — невозможна; бескорыстная любовь к «вещам»? Но трагедия Боркмана построена на этой любви; любовь к ближним? Но ближние — большинство: ближние клеймятся в «Докторе Штокмане». Любовь чувственная? Но трагедия «Эйольф» построена на этом; любовь к созданию для себя? Но в этом трагедия «Гедды Габлер»; для других? Но в этом трагедия «Сольнеса», созидавшего «дома для людей». Куда ни кинь, везде клин; воистину, драма Ибсена есть драма существующих миросозерцании. Миросозерцание — реальней жизни; вся жизнь есть следствие миросозерцания; тут, под эмпирическим детерминизмом, вскрывается у Ибсена гносеологический идеализм. Кризис нашего миросозерцания только в творчестве Ибсена отобразился; только Ибсен среди всех современных драматургов сознал до конца степень реальности этого кризиса, его могучую власть на реальную жизнь людей; с этой точки зрения вся реалистическая картина жизни, выгравированная творчеством Ибсена, есть эмблема: 1) антиномии нашего познания, 2) антиномии между познанием и бытием; вот почему везде смысл драмы двоится; любая реалистическая сцена, изображающая битву жизни, есть вместе с тем наглядная эмблема великой битвы между раздвоением нашего сознания, а также противоречие раздвоения между сознанием и бытием; противоречие между бытием и творчеством: пример — Сольнес: строя дома для людей, он желает строить дома для Бога; и от этого гибнет; противоречие между «я» — и «ты»: пример — Гедда Габлер: утверждая до крайности свое «я», Гедда ради «я» губит «ты» (Левборга), которого, однако же, любит; как скоро для «я» исчезает «ты» (Левборг застреливается), гибнет Гедда; вывод — «я» и «ты» должны соединиться в чем-то, что ни «я» ни «ты»; противоречие между желанием и долгом: пример — Эллида Вангель (ее драма между долгом по отношению к мужу и желанием уйти с незнакомцем); противоречие между милосердием и нравственным законом: пример — Бранд. И т. д.
Все драмы Ибсена построены на противоречиях; противоречия эти предопределены раздвоением между сознанием и жизнью; бессознательная жизнь есть состояние животное; проведение сознания до его возможных границ есть подчинение самой жизни сознанию; трагический вывод: мертвая жизнь: между мертвой жизнью и жизнью животной особенно ярко в «Когда мы, мертвые, пробуждаемся». Рубек — сознателен: но он — мертв; окружающие его живы, но бессознательны; когда он изваивает их, они выглядят зверями; Рубек сознает, что и жизнь, и сознание в творчестве; творчества жизни не хватает Рубеку; он только сознанием доходит до творчества: преобразить свою жизнь он не может; и он — гибнет.
Тут нащупываем мы сокровенный нерв самого ибсеновского творчества; нам открывается как бы третий этаж его художественной постройки; трагедия героев Ибсена в том, что они то бессознательно стремятся к творчеству жизни, как Боркман, инстинктивно стремясь выбросить из земли земляные богатства и ими преобразить жизнь; земля погубила Боркмана; то герои эти хотят из сознания сотворить для себя живую жизнь; и, совершенные мертвецы, они гибнут, как только поднимаются к стихии живого сознания — воздуху вершин: совершеннейший мертвец Рубек гибнет, поднимаясь к высотам своего оледенелого сознания, когда сознание это указывает на себя как на продукт творчества; сознание долга без живо ощущаемой любви губит и Бранда; сотрясением воздуха срывается лавина; обоих погубила воздушная стихия; так же губит стихия сладострастия, вода, маленького Эйолъфа. Огонь деятельности без знания земли и без мудрости воздуха превращает Штокмана во вредного чудака; ибсеновские герои не знают соединения стихий в гармоническом единстве; они гибнут и от воздуха вершин, и от земли, и от воды, и от огня. В Бранде есть огонь и воздух, но нет земли и воды; В Боркмане есть и земля, и огонь; нет воды и воздуха; в Сольнесе есть и земля, и вода, и огонь; воздуха нет. Стремление к творчеству новой жизни ведет к гибели у Ибсена, потому что для творчества жизни нужно стать одновременно и выше жизни, и выше сознания, соединить сознание с жизнью, претворить слово в плоть; сочетать «я» и «ты» в «он»; стремление и долг — в свободе. Эти выводы ярко и сжато намечены у Ибсена в «Императоре и Галилеянине».
Читать дальше