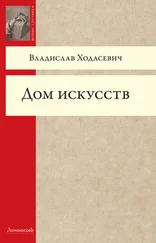И Кай точно смертей, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, — мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно».
Так рассказывает Толстой о мыслях Ивана Ильича. И тут есть не только верное жизненное наблюдение, но и некая правда уже иного порядка. Иван Ильич подходит к огромной, важнейшей мысли, только не умеет додумать ее до конца. Он прав, Каю действительно «правильно умирать», потому что он — абстракция, фикция, ничто и никто. Ивана же Ильича отличают от Кая его «чувства и мысли», то есть его личность. Личность — это единственное не общее, не абстрактное, что есть у Ивана Ильича. И эта личность не может, не должна умереть: она — единственная реальность в пустыне абстракций, спасательный круг в океане смерти. Она — единственная зацепка за бессмертие.
Чего не додумал Иван Ильич, то знал Анненский. Знал, что никаким директорством, никаким бытом и даже никакой филологией от смерти по-настоящему не загородиться. Она уничтожит и директора, и барина, и филолога. Только над истинным его «я», над тем, что отображается в «чувствах и мыслях», над личностью — у нее как будто нет власти. И он находил реальное, осязаемое отражение и утверждение личности — в поэзии. Тот, чье лицо он видел, подходя к зеркалу, был директор гимназии, смертный никто. Тот, чье лицо отражалось в поэзии, был бессмертный некто. «Ник. Т-о» — никто — есть безличный действительный статский советник, которым, как видимой оболочкой, прикрыт невидимый некто . Этот свой псевдоним, под которым он печатал стихи, Анненский рассматривал как перевод греческого «o n t i z», никто, — того самого псевдонима, под которым Одиссей скрыл от циклопа Полифема свое истинное имя, свою подлинную личность, своего некто. Поэзия была для него заклятием страшного Полифема — смерти. Но психологически это не только не мешало, а даже способствовало тому, чтобы его вдохновительницей, его Музой была смерть.
С тех пор как Иван Ильич стал бояться смерти, все живое, реальное, и предметы, и люди, — стали казаться ему противными, грубыми. Жене ставит он в упрек «белизну, и пухлость, и чистоту ее рук, шеи, глянец ее волос и блеск ее полных жизни глаз. Он всеми силами души ненавидит ее». Такое же ощущение вызывает в нем и дочь с обнаженными плечами, и прическа, штаны, воротничок и перчатки ее жениха, и новенький мундирчик сына. Иван Ильич оскорблен и испуган безучастностью жизни к его страданию, которое теперь составляет все его существо. Жизнь для Ивана Ильича мертвенна, глуха ко всему, полна лжи, пошлости и призрачности.
Точно такой же она представляется Анненскому. Вот несколько отрывков из его стихов разных периодов, изданных и неизданных. Они взяты почти наудачу, почти просто оттуда, где раскроется книга или рукопись. Я их не подыскивал, а лишь расположил в известном порядке. Их можно привести сколько угодно, и, может быть, приводимые мной — далеко не самые выразительные.
Вот каким видится мир Анненскому:
Тупые звуки вспышек газа
Над мертвой яркостью голов
И скуки черная зараза
От покидаемых столов,
И там, среди зеленолицых,
Тоску привычки затая,
Решать на выцветших страницах
Постылый ребус бытия.
Природа безобразна, кровоточива, гнила. Лунный глаз, загоревшись,
Видит: пар белесоватый
И ползет, и вьется ватой,
Да из черного куста
Там и сям сочатся грозди
И краснеют… точно гвозди
После снятого Христа.
Вот другой, типичный для Анненского, пейзаж:
Как странно слиты сад и твердь
Своим безмолвием суровым,
Как Ночь напоминает
Смерть Всем, даже выцветшим покровом!
Эта безжалостная, безучастная, безобразная жизнь, заживо разлагающаяся, — упирается в безжалостную, бессердечную смерть:
Вот она — долинка,
Глуше нет угла.
Ель моя елинка!
Долго ж ты жила…
Старость не пушинка,
Ель моя елинка… Бедная… Подруга!
Пусть им солнце с юга,
Молодым побегам…
Нам с тобой, елинка,
Забытье под снегом.
Или еще жесточе. Жить — это значит
Скормить помыканьям и злобам
И сердце, и силы до дна —
Чтоб дочь за глазетовым гробом,
Горбатая, с зонтиком шла.
Жизнь — это накопленное бремя
Отравленных ночей и грязно-бледных дней!
Но она еще издевательски дурманит человека своей пестротой, сменой, своим грубым азартом. Человеку грозит самый страшный ужас, смерть, — а его, «как жертву накануне гильотины», «дурманят картами и в каменном мешке».
Читать дальше