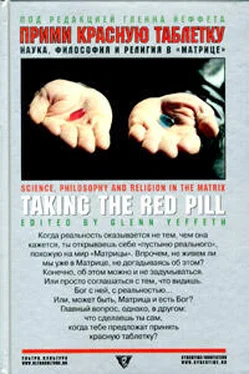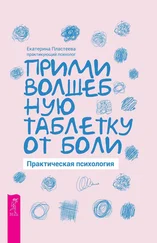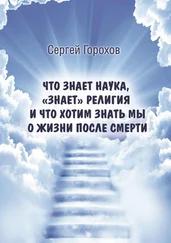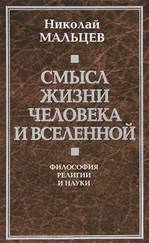Хотя подобный взгляд на жизнь может показаться весьма депрессивной основой для религии, буддизм доказывает, что его доктрина реалистична и противостоит пессимизму. На самом деле я бы сказал, что это глубинное чувство ужаса, свойственное уделу человеческому, является корнем любой религии и философии. Несмотря на то, различные религиозные и философские системы могут выражать фундаментальную проблему человека в разной форме, все они стараются увести нас за пределы тяжкого мирского человеческого опыта, который наиболее полно определяет наше существование. И хотя мы могли бы ожидать, что буддисты в силу этого окажутся, скорее всего, людьми суровыми, сердитыми или даже откровенно подавленными с учетом отправной точки их веры, на самом деле все обстоит совершенно иначе. Любой, кто видел выступления далай-ламы, сразу же начинает ощущать жизнерадостную легкость, хорошее настроение, которые можно назвать какими угодно, но только не наполненными печалью. Нередко скульптурный Будда глядит на нас с легкой улыбкой, указывающей на удовлетворенность. Итак, что бы ни говорили об отправной точке буддизма, его первая благородная истина совсем не обязательно ведет к отрицательному или мрачному взгляду на мир.
Вторая благородная истина раскрывает причины, обуславливающие страдание, и в более экзистенциальном смысле описывает нескончаемый цикл перерождений, известный как сансара. Прежде всего, буддизм утверждает, что из-за незнания истинной природы реальности мы воспринимаем и переживаем мир искаженным образом. Слово «незнание» может ввести в заблуждение: дело в том, что речь идет не совсем о недостатке знания. Проблема, скорее, в неверном знании. Другими словами, мы думаем, что в той или иной степени понимаем природу окружающего нас мира, однако в действительности наше восприятие полностью деформировано. К примеру, согласно одному из «трех признаков бытия» (банальных истин о природе реальности), все на свете преходяще (анитья). Все вокруг нас претерпевает постоянные изменения — ничто не остается прежним. На каком-то внешнем по отношению к нам уровне мы с легкостью можем понять эту сентенцию. Любой элементарный пример, взятый из физического мира, подтверждает, — действительно ничто не остается в статичном состоянии. Однако если любой из нас беспристрастно проанализирует наш образ жизни, то со всей очевидностью обнаружит, что, несмотря на явную недолговечность всего сущего, мы зачастую ведем себя так, словно нас удивляет изменение привычных вещей. Мы сердимся или огорчаемся, когда то, что мы ценим, исчезает, погибает или разрушается. И действительно — мы постоянно ищем нечто неизменное, стабильное, найдя же нечто такое, что, как нам кажется, может подарить нам «счастье», мы цепляемся за него со всей силой, как будто мы способны удержать его от изменений. Именно так возникает желание. Наши столкновения с элементами окружающего мира порождают позитивные, негативные и нейтральные ощущения. Если нам доступны позитивные переживания, мы хотим получить их еще больше. Сталкиваясь с негативом, мы прилагаем максимальные усилия, чтобы его избежать (ненависть и отвращение — это обратная сторона желания и привязанности (зависимости)). Таким образом, наше желание толкает нас вперед, и у нас вырабатывается привязанность (зависимость) и даже пристрастие к приятным переживаниям жизни. Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что если наше счастье зависит от неизменных вещей, то мы всегда будем недовольны. Мы словно наркоманы, которым хочется все больше и больше. В такой перспективе жизнь представляется бесконечным переживанием потерь, потерь, потерь… ибо те вещи, которых мы желаем и которые стараемся сохранить, неизбежно изменяются или вообще исчезают.
Еще одна сторона скоротечности — взаимозависимость. Все рождается и существует, находясь в зависимости от неисчислимого количества других факторов. Нечто простое, вроде листа бумаги, зависит от саженца, дерева, дождя, почвы, солнечного света, лесоруба, бумажной фабрики и т. д. А существование каждого из перечисленных явлений зависит от бесчисленного множества других. Если мы возьмем что-нибудь такое сложное, как человек, паутина зависимости станет еще запутанней. Рождение и первоначальное кормление каждого из нас зависит от наших родителей, равно как питание, кров, образование, защита и т. д. Иначе говоря, насколько нам может нравиться думать о себе как о независимых существах, настолько в действительности мы оказываемся зависимы от паутины окружающей нас жизни. По сути дела, своим учением о «не я» (анатман) Будда говорил, что представление об обособленности и независимости наших «я» — это иллюзия, побуждающая нас вести себя эгоистично. Именно эта склонность к эгоизму увековечивает страдание и для нас самих, и для других людей.
Читать дальше