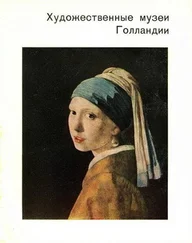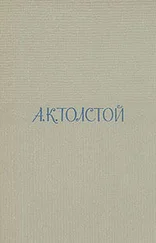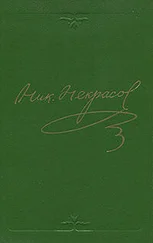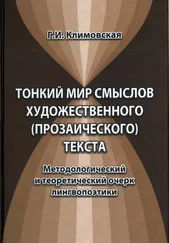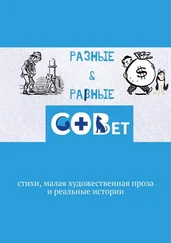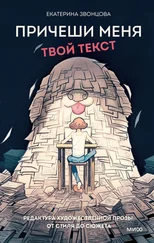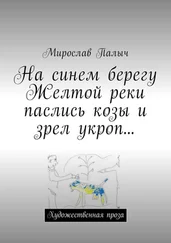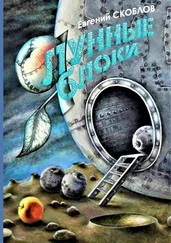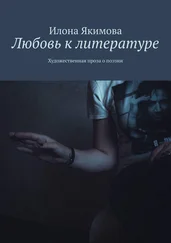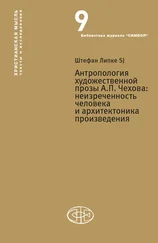Как же относится автор к своим эгоистичным героям? Он влагает им в уста "наполеоновские" декларации (например, заявление Званинцева: "... на все и на всех смотрю я, как на шашки, которые можно переставлять и, пожалуй, уничтожать по произволу... для меня нет границ" - с. 201), а потом решается на авторское пояснение (в принципе Григорьев в повестях стремится к объективированному рассказу, и лишь изредка авторский голос вторгается с каким-либо разъяснением): "Истина и ложь, страсть и притворство так были тесно соединены в натуре Званинцева, что сам автор этого рассказа не решит вопроса о том, правду ли говорил он. Есть грань, на которой высочайшее притворство есть вместе и высочайшая искренность" (с. 202).
Пожалуй, это и есть истинное отношение автора к подобным персонажам. В 1844-1846 гг., когда Григорьев писал и печатал свои романтические повести, у него самого было очень противоречивое отношение к людям типа Милановского, Званинцева, Имеретинова: они житейски и эстетически неудержимо влекли к себе, к своим "таинственным", властным, сильным натурам чистого, робкого, слабого юношу, тянувшегося к "трансцендентному", романтически возвышающемуся над пошлым миром обыденности, а с другой стороны, и отталкивали холодным себялюбием, отсутствием нравственного фундамента и идеала. Прежде всего, видимо, Григорьев раскусил пройдоху Милановского: в письме к отцу от 23 июля 1846 г. он называет его "мерзавцем" (см. с. 297), следовательно, "наполеоновский" пьедестал должен был сильно пошатнуться, а преклонение перед "гением" - исчезнуть. В статьях стали появляться резкие тирады против романтического индивидуализма: "...не смешон ли, не жалок ли человек, который среди общего стона слышит только свою песню, среди страшных общественных явлений обделывает с величайшим старанием свою маленькую статуйку и любуется ею, когда кругом него страшные, бледные, изнуренные голодом лица?". {Григорьев А. Русская драма и русская сцена. 1. Вступление. - Репертуар и пантеон, 1846, Э 9, с. 429.}
Интересно, что третья часть трилогии о Виталине, "Офелия", "отставшая" от первой в печатном воплощении (да, наверное, и в рукописном) всего на семь месяцев, а от второй - на пять, содержит значительно больше яда и жронии по отношению к эгоцентризму и циничности героев, чем первые две повести. "Теория женщины" повествователя "Офелии" под стать аналогичным разоблачениям утрированного романтического эгоизма в философско-художественном труде С. Киркегора "Или-или" (1843), труде, который Григорьев конечно не знал, но тем закономернее (в смысле воздействия духа времени) совпадение. В "Офелии": "Женщина - те же мы сами, наше я, но отделившееся для того, чтобы наше я могло любить себя, могло смотреть в себя, могло видеть себя и могло страдать до часа слияния бытия и тени..." (с. 147); в "Или-или": "Моя Корделия! Ты знаешь, что я люблю говорить с самим собой. В себе я нашел личность самую интересную из всех знакомых мне. Иногда я боялся, что у меня может иссякнуть материал для этих разговоров, теперь я не боюсь, теперь у меня есть Ты. Теперь и всю вечность я буду говорить с самим собой о Тебе, о самом интересном предмете с самым интересным человеком, ведь я - самый интересный человек, а ты - самый интересный предмет". {Цит. по кн.: Гайденко П. П. Трагедия эстетизма. Опыт характеристики миросозерцания Серена Киркегора. М., 1970, с. 79.}
Разница лишь в том, что Григорьев привносит в текст серьезный аспект: мотив страдания.
В последней повести из "масонской" серии, писавшейся после возвращения Григорьева из Петербурга в Москву, в 1847 г., и печатавшейся тогда же в газете "Московский городской листок", - "Другой из многих" - чувствуется уже расставание Григорьева со своим прошлым. Чабрин, благородный и романтический юноша, духовно "соблазненный" масоном Имеретиновым (в юном герое, разумеется, улавливаются черты автора), затем раскаивается, прозревает и в конце повести, как бы отталкиваясь от прошлых идеалов, убивает на дуэли Васю Имеретинова, племянника и воспитанника масона.
Однако, расставаясь, Григорьев тем болезненнее переживает все то грандиозное, яркое, глубокое, что было связано с пафосом всемирного "великого братства людей" и "божественной радости", т. е. те черты и свойства, которые были присущи, по его представлению, деятелям масонства. Он еще сильнее подчеркивает в своих персонажах именно эти свойства и идеалы, но тут же утрирует и их черты эгоизма и даже бытовой распущенности. "Другой из многих" - самая "неистовая" повесть Григорьева, наполненная совращениями, вакханалиями, смертями, демоническими мужчинами и женщинами; поэтому она менее всего автобиографична.
Читать дальше