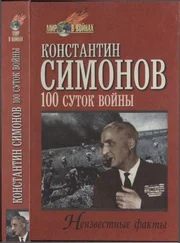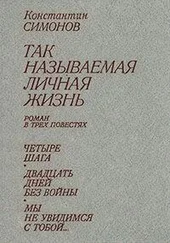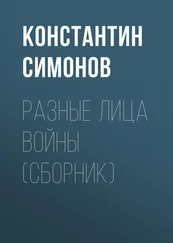– А какое количество членов фашистской партии среди ваших верующих было перед началом войны?
– Большое. Но меньше, чем среди протестантов, и учтите при этом, что для многих, в особенности если говорить об интеллигенции, принадлежность к фашистской партии была необходимым условием получения работы.
Наш разговор перешел на проблемы, связанные с нынешней военной оккупацией и работой нашей комендатуры.
– Немецкое население здесь ведет себя тихо, – сказал патер, – и будет вести себя тихо. Но оно уже жалуется, оно избаловано.
– Чем избаловано? – спросил я.
– Тем, что, будучи рабами по отношению к Гитлеру, они могли быть господами по отношению к другим. По отношению к Гитлеру они были слишком рабами. В немецком народе при некоторых обстоятельствах проявляются такая дисциплина и покорность, которые меня очень сердят. Вот такая излишняя покорность, излишняя, излишняя, – несколько раз желчно повторил он, – была проявлена немцами и перед Гитлером.
Кажется, эта тема очень волновала его. Во всяком случае, он впервые за все время разговора повысил голос.
– Вот ко мне приходят плачущие женщины, жалуются, плачут. Много плачут. Что арестовали их мужей, членов фашистской партии. Я их жалею, как их духовный отец, но я при этом меньше сочувствую им, чем мне самому бы хотелось.
– Почему меньше сочувствуете?
– Потому, что они плачут только в первый раз. Если бы они плакали уже во второй раз, я бы им сочувствовал вполне.
– Почему? – снова спросил я.
– Если бы они плакали уже во второй раз, – повторил он, – во второй раз, когда посадили их мужей. А в первый раз плакали бы тогда, когда их мужья вступали в фашистскую партию. Но тогда они не плакали. Они проявляли чрезмерную покорность и дисциплину, которую я, немец, ненавижу в немцах.
Уже не упомню всех других подробностей этого разговора. Помнится, говорили еще о национальных чертах немецкого народа, о нынешнем состоянии Гинденбурга. Записал только то, что больше всего запомнилось в этом сложном разговоре. Остальное как-то запуталось в голове.
Беседа наша закончилась далеко за полночь. Старик мне по-человечески понравился. Были в нем спокойствие и убежденность при полном отсутствии трусости. Он говорил так, как думал, независимо от того, могло мне это нравиться или не могло. И в этом было какое-то обаяние…
Человек, с которым я разговаривал в ту ночь в Гинденбурге, казался мне тогда глубоким стариком. Когда тебе двадцать девять, разница в тридцать с лишним лет кажется особенно огромной.
Пожалуй, это ощущение возраста придавало тогда в моих глазах дополнительный вес словам моего ночного собеседника и заставляло без особых раздумий брать их на веру.
Тогда мне вообще казалось, что старые люди реже кривят душой.
Но сейчас, перечитывая свою запись того разговора, думаю о том, что этот, несомненно, сам по себе мужественный и значительный человек представлял в своих размышлениях не только личные взгляды, но и взгляды католической партии центра, нашедшей политических наследников в послевоенной Германии. Думаю, что на самом деле отношение той партии, к которой он принадлежал, к властям фашистской Германии было, как подсказывает история, и сложней и неоднозначней, чем об этом мог судить с его слов сидевший перед ним тогда двадцатидевятилетний советский офицер.
Перечитывая тот разговор, испытываю сейчас некоторое недоверие к своему тогдашнему ощущению: что он говорил так, как думал.
Пожалуй, будет верней сказать, что хотя он не говорил мне того, чего не думал, но при этом и не говорил всего, что думал. Во всяком случае, так заставляет меня считать приобретенный с тех пор опыт политической жизни.
Записная книжка за 1–2 апреля 1945 года.
…Вчера в середине дня, оставив Альперта в Пщине, я один поехал на «виллисе» в новый пункт расположения штаба 38-й армии. Штаб стоял теперь у поселка, который назывался Эмма. Здесь были огромная шахта и большой коксохимический завод. И то и другое мы захватили целыми, и шахта и завод работали. Воздух был наполнен угольной пылью, повсюду стояли черные угольные озера с черной, грязной водой. Почва тоже была черная. На домах осела копоть. Пейзаж был мрачный. Ортенберг, как и раньше, в Пщине, жил рядом с начальником штаба армии. Красное, казарменного типа кирпичное здание, мрачное снаружи, как и многие немецкие жилища, было уютным внутри.
Я приехал к Ортенбергу уже под вечер. Мы выпили с ним по стакану чаю, и я стал звонить, выяснять, где сейчас находится Москаленко: здесь, в штабе, или на наблюдательном пункте? Я хотел его увидеть.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу