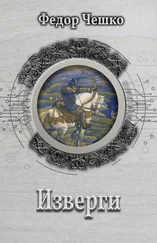Это была особенность номер один.
А есть и номер два. Мы уже не раз повторили давным-давно известную истину про импульс силы, который равен количеству движения (прошу прощения у физиков-профи за некоторую архаичность формулировки: тематика статьи накладывает отпечаток). Но равенство – оно и в Африке равенство. В том смысле, что ведь и количество движения равно импульсу силы. Т. е. метаемый снаряд имеет оптимальный диапазон веса. С одной стороны, чем легче, скажем, копье, тем дальше его можно зашвырнуть. Но если вес копья снизить ниже нижнего (здорово сказано, правда?) предела оптимального веса, то дальность полета начнет уменьшаться (тем более, если площадь трущейся о воздух поверхности увеличена стабилизаторами – оперением). А главное, начнет резко снижаться тот импульс силы, в который копье превращает количество своего движения при попадании в цель. Проще говоря, стрела, брошенная руками, вследствие низкой массы не причинит своей цели ни малейшего значимого вреда. Другое дело, если той же самой стреле мы сообщим значительное начальное ускорение. Тогда за счет высокой скорости полета она передаст жертве импульс силы, соизмеримый с силой удара тяжелого копья на близкой дистанции. А с учетом того, что стрела тоньше, и наконечник ее тоньше (а, значит, площадь контакта стрелы с целью существенно меньше, чем аналогичный тактико-технический показатель копья), мы получаем выигрыш не только в дальности, но и в пробивной силе.
Примерно та же история и с пращей: для увеличения дальности полета и силы удара камень предварительно разгоняют по кругу (раскручиванием), получая еще и приятный довесок в виде центробежной силы. Именно «примерно»: есть одно существенное отличие, к которому мы еще возвратимся.
Вот когда техническая идея включает в себя не один, а комплекс принципов увеличения коэффициента полезного действия, ее техническое воплощение перестает умещаться в названии «инструмент».
А теперь, поднаторев в некоторых теоретических вопросах лукостроения, перейдем к главной теме. Двинемся проторенной дорожкой и начнем с вопроса «когда?».
Для начала снова позволим себе вольную игру ума.
В Книге Й. Августы и З. Буриана «Жизнь древнего человека» есть такая фраза: «В конце раннего палеолита, т. е. приблизительно 70000 лет назад угасла жизнь и потухли костры неандертальцев». Ну, и дальше в том плане, что в верхнем палеолите появились первые Хомо Сапиенс. Но вернемся к цитате. И количество тысяч лет вызывает, мягко говоря, скепсис, и что жизнь с кострами угасли вдруг, в одноразье – тем более сомнительно. Кстати сказать, «нехронологические» системы летоисчисления – по качеству каменных изделий, или по «до – после – во время» ледникового периода крайне условны и с развитием археологии требовали поправок. Так пошли возникать деление палеолита на верхний и нижний, а также эпипалеолит, мезолит и прочие суб-эпохи, которые отнюдь не всегда соглашаются строиться по хронологическому ранжиру. А что касается угасания костров, то, пожалуй, единственным значимым изменением условий жизни неандертальцев было именно появление в зоне их обитания наших непосредственных предков. А потому логично предположить, что упомянутое появление и послужило причиной упомянутого угасания. Но тогда следующий вопрос: а за счет чего бы? Неандертальцы отнюдь не представляются этакими мальчиками для исторического битья.

Их оружие было грубым, но не примитивным; они умели успешно (и наверняка сообща) действовать против самых крупных и опасных животных своего времени, их ум дозрел до отвлеченных понятий (а значит, и до охотничье-боевых хитростей), а речь – до возможности друг другу отвлеченные понятия разъяснять (иначе бы невозможны были обрядность и религия, пусть и зачаточная) – значит, и до умения задумывать хитрости сообща… Что качественно нового могли противопоставить этому наши предки, вдобавок скорее всего уступавшие неандертальцам в таких чисто звериных способностях, как обоняние, слух, умение видеть в темноте? Одной тщательностью выработки оружия тут не возьмешь. Перефразируем приводившуюся уже раньше цитату: если тебя хряснули по темени топором, велика ли разница, был он грубым неандертальским, тщательно и мелко оббитым – мезолитическим или по-неолитически насаженным на рукоятку? Летальный исход – он хоть в палео-, хоть в неолите летальный. Пронять же неандертальцев умением вырезать скульптуры из мамонтовой кости и здорово рисовать на стенках пещер, думается, было не реальнее, чем запугать византийцев воздушными змеями.
Читать дальше



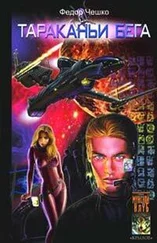
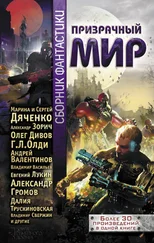
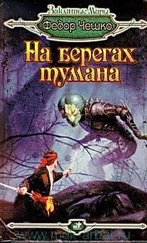
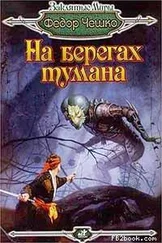
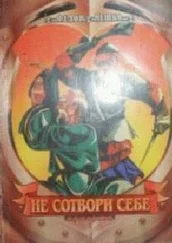
![Федор Чешко - Ржавое зарево [litres]](/books/399417/fedor-cheshko-rzhavoe-zarevo-litres-thumb.webp)