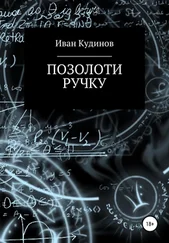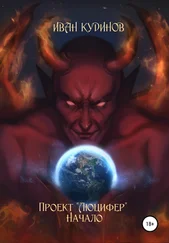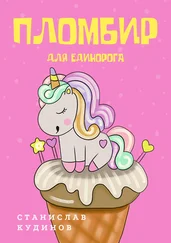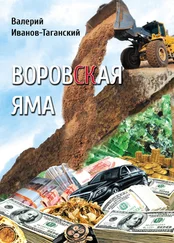И вот письмо — будто ниточка в прошлое. Вскрываю конверт: тетрадный листок в клеточку исписан экономно-убористым (в каждой клеточке — буква) и вполне разборчивым почерком: «Почтенный Иван Павлович… — вот это «почтенный» останавливает и удивляет какой-то нездешней, забытой манерностью, как некий неловкий и неуместный реверанс, будто письмо явилось не из нынешнего УБ 14/8, что в Новоалтайске, а из давней Гатчины царской или Ораниенбаума, век девятнадцатый. Признаться, я так и не привыкну к этой манере его обращения, а Юрий Леонтьевич и в последующих письмах правилу своему не изменит, всегда будет так писать: «Почтенный Иван Павлович, простите за письмо, которое может отнять у вас время и доставить лишние хлопоты. Полагаю, и без моих просьб хватает у вас забот… но и мне, тюремной личинке, да к тому же тронутой уже столь «модной» нынче в российских застенках чахоткой, без посторонней поддержки не обойтись. Беда моя в том, что и еще одной болезнью тронут я глубоко и, похоже, непоправимо: вот уже много лет пишу, изливаю свою душу на бумагу, а что получается — кто скажет? Вот если бы вы согласились принять моих литературных «деток», я вам отправил бы их тотчас — три моих опуса: «Портреты из тюремного огорода», «Философ с плоскогубцами» и «Отбросы общества», впрочем, «Философ» касается не тюремного, а сугубо вольного крестьянского бытия, угасающей нашей деревни… Такая вот моя докука».
Письмо заинтриговало. Случай и впрямь особый: проза не просто на тему лагерной жизни, взгляд как бы со стороны, но без всяких «как бы» — оттуда, из недр самой жизни, можно сказать, написанная вживую, с натуры — «Портреты из тюремного огорода».
И еще подумалось: отчего люди в самые тяжкие для себя моменты ищут опору, а то и спасение не только в религии, но и в литературе, которую чтут, читают, а нередко и сами берутся за перо, «изливая душу свою на бумагу», как признается Юрий Мартынов, сиделец печального заведения УБ 14/8? Религия и литература всегда были рядом — и прежде всего своей духовностью. Несовместимо? Но разве литература, вся русская и мировая классика, не есть часть человеческой веры? Да ведь и сама Библия (biblia, что значит — книги) — это Литература с большой буквы, вершина Литературы.
Когда-то великий адепт научного коммунизма Карл Маркс утверждал, что «исчезновение религии произойдет в результате общественного развития». И малость ошибся — не произошло! Более того, оказалось, одно другому не мешает — напротив. Хотя в свое время ярые атеисты-погромщики и пытались уничтожить религию, разрушая храмы, сбрасывая колокола и кресты… А чем это кончилось? Так и литература сегодня — в горячке реформ и приватизационно-ваучерных переделов — отброшена на обочину, нищая и бесправная, лишенная своего профессионального статуса, оставленная без крестов… И все-таки живая, не сломленная, а продолжающая искать выход из тупика.
Вот с этими чувствами и написал я Юрию Мартынову: мол, присылайте своих литературных «деток», жду и обещаю внимательно к ним отнестись, но и не менее объективно — оговорился на всякий случай, опасаясь, что могут ведь «детки» и недоношенными оказаться, а то и вовсе мертворожденными… Тогда чем я его утешу?
Ответа долго не было, и я забеспокоился: не случилось ли какой беды? А может, автор передумал посылать своих «деток», сочтя, что рано им еще выходить в люди? Но все вышло иначе. И задержка случилась по моей вине. Оказывается, в адресе допустил я неточность, указав отряд 1е, а надо было 16, вот письмо, как сообщил мне Юрий Леонтьевич, и плутало дней десять по арестантским казармам, пока не нашло своего адресата.
Но теперь все уже позади, и ответ мною получен, бандероль с пачкою рукописей и довольно пространным сопроводительным письмом — все тот же экономно-убористый (клеточка — слово) и отчетливый почерк: «Почтенный Иван Павлович, глубоко тронут вашей сердечной отзывчивостью. И сразу же посылаю обещанные опусы, заранее винясь за их неухоженный вид. Даст бог, нынешней осенью вернусь домой, в Новозыково, тогда, если надо, и набело перестучу на старой своей печатке, а здесь, в колонии, приходится обходиться подручными средствами… Что касается моих «деток», скажу коротко: рассказ «Философ с плоскогубцами» не совсем по сердцу мне, однако не буду переиначивать — бог с ним, какой есть! А вот «Портреты из тюремного огорода» — это боль моя незажившая, и Ленька Момулькин, главный герой, не дает мне спать по ночам. Сколько их, таких, как Ленька, запутавшихся и духом упавших, по нашим колониям обретаются — поди сочти! И гибнут они, и нету порой до них дела — так получается. А равнодушие пострашнее иного преступления, хотя и нет такой статьи — привлекать к суду равнодушных.
Читать дальше

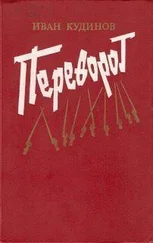
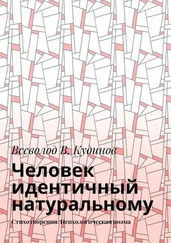

![Валерий Иванов-Таганский - Воровская яма [Cборник]](/books/393211/valerij-ivanov-taganskij-vorovskaya-yama-cbornik-thumb.webp)