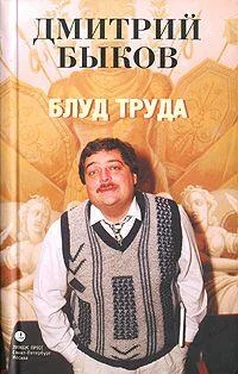У, сука, убил бы. Сколько от тебя натерпелся. Ты был моим одноклассником, моим вожатым, моим сержантом. Ты внушал мне необходимость страдать, смирять гордыню, ломать себя, ты был убежден, что все должно делаться через надрыв и пупочную грыжу, поперек себя, не как хочется и не как надо, а как максимально отвратительно. Своей идиотской принципиальностью ты навеки отбил у меня всякую охоту верить во что-нибудь до конца. С тех пор Платон мне истина. Наделенный яркими, выпуклыми минусами и сомнительными, недоказуемыми плюсами (угрюмство, тупость, упрямство скрывают якобы сливочно нежную душу), ты отравил мне первые двадцать лет жизни и вот вернулся, распевая старую песню о главном.
О своем рассветном городе, падла. О крепких плечах товарищей. О своей курносой щекастой девке с поросячьей косой. О заводском гудке, о босоногих плясках под дождем, о том, как молодой моряк приехал на побывку. О своей Родине, гадина, которая опять не моя.
«Эстет и варвар вечно заодно»,- писала Новелла Матвеева тридцать лет назад; сказано на века, так что на западном фронте без перемен. Я ничего удивительного не вижу в том, что большинство наших особо утонченных эстетов опочило в объятиях тоталитарной эстетики: Сорокин это предсказывал еще в «Тридцатой любви Марины», где довести эстеточку-диссиденточку до оргазма сумел только заводской партиец. Сорокин, говорят, сам кончает от Бабаевского. Дыховичный в «Прорве» и «Женской роли» подтвердил пристрастие современных постсоветских эстетов к тому, что им кажется grand style'м. Но самые клинические примеры – это Эрнст и Парфенов.
Вот возьмем Эрнста, да? Вторичные передачи делал, претенциозные, но по крайней мере информативные. Подозрительное началось, когда эстет, создатель «Матадора», с волшебной легкостью оставил возлюбленное творчество и переместился в начальники. Сам он, правда, утверждал, что это только новый вид творчества – манипулирование массовым сознанием. Телевизионный постмодернизм, сказал он. Интересные представления о творчестве.
И начался постмодернизм: то есть вместо обращения к элите, тусовке и прочей пене дней Эрнст со товарищи обратился к некоей абсолютно мифической прослойке, которая мыслилась ему как middle class. Допускаю, что в силу элитного происхождения и счастливо сложившейся биографии он никогда с этим классом не пересекался, имея о нем предельно мифологизированное представление – главным образом из нашего старого кино. Перечисление типажей много места не займет: мать-одиночка, растящая сына, который вечно ходит в клетчатой ковбойке, изобретает летающий самокат и в конце концов становится авиаконструктором. Глава рабочей династии, патриархальный пролетарий, над которым измывался еще Виктор Некрасов. Молодой очкастый ученый, много острит, играет в шахматы. Девушка с высокой прической в форме кукурузы, иногда в косынке, склонна увлекаться фарцовщиком, но потом в слезах возвращается к приплюснутому типу в промасленной кепчонке. Промасленный тип, изъясняющийся междометиями. Старорежимная коммунальная соседка с прононсом и манэээрами. Олег Ефремов в роли водителя, Галина Волчек в роли медсестры.
Не было в русской истории более пошлого периода, чем советский,- перефразируя более жестокую формулировку любимого поэта, скажем: «Бывали хуже времена, но не было пошлей». В этом смысле тридцатые и шестидесятые отличаются незначительно: в массе своей это было советское искусство, организованное в соответствии с каноном, а канон был равно омерзителен у неистового Виссарионовича и у неосторожного Никиты. Счастливый финал, действительность в революционном развитии, плоские, чисто функциональные характеры, покаяние заблудших, молчаливый триумф немногословных. Шестидесятые были даже хуже, потому что в них присутствовала размывающая, слюнявая слащавость, безоговорочно проигрывающая мрачной брутальности настоящего стиля вампир. Лучше профессиональный палач, чем сентиментальный: меньше мук. Советское кино шестидесятых годов – говорю не о вершинах вроде Тарковского, Шпаликова, Хуциева, но о массе,- было отвратительной розовой пошлятиной с устойчивыми символами и лейтмотивами, с цитатами, переходящими из картины в картину, с квазипоэтичностью и недоговоренностью, с умением изощренно и тонко угодить системе, а это в любом случае хуже, чем грубое и тупое угодничество малют скуратовых.
Ах, добродетели падение не ново -
Новее наблюдать, как низко пал порок, -
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу