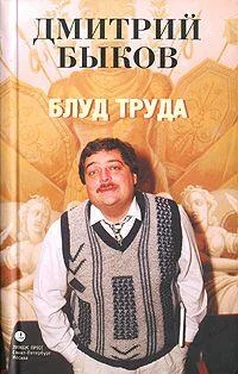Хорошая повесть. Не худо бы переиздать. Впрочем, сама книга эта клинически показательна для времени и личности автора. Обе части заканчиваются одною и тою же фразой: «С ней сделался глубокий обморок». Левая рука русского интеллигента, как всегда, не знает, что делает правая: о. Павел, протагонист, осуждает приписывание Промыслу любых болезней и бед, говорит о «естественных причинах», и страшно сказать, отвергает религиозный детерминизм; сам Булгаковский приписывает голод, падеж скота и прочие напасти Божьей воле и преподает крестьянам христианскую мораль в самом общем и догматическом виде.
Вечная двойственность интеллигентского сознания плюс дикая ошибка наборщиков: половина глав из первой части выпала, зато половина глав второй набрана дважды, и в сюжетной путанице с первого раза не разберешься. Книга издана в 1909 году. Типография носит символическое название «Народная польза».
Булгаковский – самый типичный из всех известных мне представителей учительного направления русской литературы.
Русская интеллигенция вечно стремится оплатить свой долг перед народом тем, что претендует на роль его совести.
Надобно признаться, это не самое большое достижение русской интеллигенции. Вообразите: в небогатый интерьер вашей избушки вваливается человек в пенсне, в неловко сидящем тулупе (явно для маскировки) и принимается утверждать, что он вам должен.
«Помилуйте, барин,- говорите, естественно, вы.- Отродясь вы у меня ничего не брали… хотя оно, конечно… ежели бы штоф…» «Нет, Ваня, я брал!- плачет гость.- Я на горбу твоем еду! Ты темен, ты непросвещен, но я у тебя в вечном долгу, ибо – видишь ты эти руки? видишь, я тебя спрашиваю?! Они не сеют, не жнут, не жмут! Эрго, я виноват. Но я отплачу тебе сторицею, Ваня! Я буду теперь твоя совесть». «То есть как?- недоумеваете вы.- Совесть – оно конечно, без совести и овес не родится, но у меня уже как бы есть своя!» – «Какая у тебя совесть, Ваня, ежели у тебя лампадка коптит и вообще ты темен! Дай-кось я тебе еще иконку повешу – это, Ваня, Маркс, это Пастер, а это граф Толстой, он моя совесть, а я буду твоя. Моешь ли руки перед едою? Живешь ли ты по-христиански? Бьешь ли страдалицу-жену свою?!»
Ну что ты будешь делать. Пущай.
Однако ж, согласитесь, это как-то обременительно, ежели пять твоих совестей всенародно друг друга тузят, борясь за монополию на абсолютную Истину. Опять же не вполне прилично, когда солью земли объявляет себя прослойка, имеющая к соли не больше отношения, чем к земле. Когда же добрая дюжина пророков начинает учить соотечественников, на полном серьезе полагая, что просвещением можно добиться смягчения нравов,- тут уж пиши полное пропало и берись за топоры. Прочитавши Булгаковского, можно и в самом деле запить горькую.
С поразительной чистотой, наивностью и верой он преподает свои прописи вполне здравому и трезвому младенцу, который, поди, и побольше его понимает об жизни. Потенциальный трезвенник и благополучный поселянин до поры до времени кивает, а потом устраивает известно что.
На Булгаковском, разумеется, нет никакой вины, кроме разве той, что он эту вину всю жизнь на себя навешивал. Он полагал своим долгом просвещать чужую темноту, тем самым беря на себя миссию заведомо безнадежную, ибо никого ничему нельзя научить и никому ничего не объяснишь. Но позиция Булгаковского и сотен сентиментальных просветителей гораздо привлекательней и попросту этичней, чем вакханалия Серебряного века, когда лучшие литературные силы напропалую эстетизировали порок, играли в ницшеанство, вседозволенность, богоискательство, богостроительство и групповой секс. В русской революционной ситуации субъективные мотивы творчества Булгаковского стократ чище и милей, чем запойный, чадный отечественный модернизм и его сумрачные искания.
Интересно, как он жил? Мне легче всего представить его бородатым, добрым, медлительным, наивным, с раздумчивой речью – полнотелый и скромный интеллигент в очках, водящий пером по бумаге круглые сутки. Впрочем, русский интеллигент впрямь натура двойственная, так что не удивлюсь, если сам Булгаковский пил горькую запойно, страстно, ночами напролет, играя при этом в карты и поколачивая прислугу. Но что-то мне подсказывает, что это не так. Может, он и выпивал по праздникам рюмку в кругу семьи, тут же приговаривая: «Ничего слишком…» По-моему, он вел жизнь тихую и подвижническую, и его сильно заботил вопрос о бессмертии души. В своей брошюре на эту тему (задолго до Моуди) он приводит много свидетельств в пользу загробной жизни. Брошюра написана живым, доступным языком и адресована широкому кругу темных людей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу