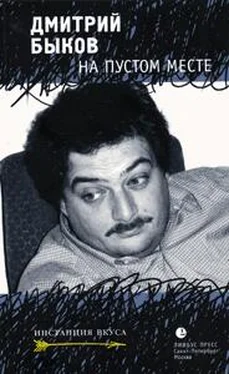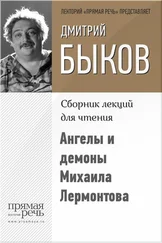надо же было в прощальном письме к жене вбить такой клин между матерью и дочерью! Откуда в нем, небывалом знатоке человеческой психологии, была такая нравственная, духовная глухота – понять невозможно. Впрочем, оно вполне понятно, если учесть, что смысл жизни он видел в преодолении всего человеческого – тогда как только это человеческое и ценно, только это милосердие, слабость, сентиментальность и составляют единственный смысл жизни. В прозе его таких озарений немного – разве что братание солдат в четвертом томе «Войны и мира» под шепчущими, перемигивающимися звездами, да «Отец Сергий». Это было чуждо ему, он отринул это – и потому к христианству никогда не подошел даже близко. Ветхозаветному пророку не дано совершить этот прорыв – а того, что было ему дано, он уже не ценил.
Дано же ему было ощущать жизнь во всей ее великолепной жестокости, торжествующей грубости, цветущей полноте – и уйти от такого мироощущения можно только в смерть. Когда такое решение приобретает мыслитель – это вещь понятная, хотя и трагическая. Но когда нечто подобное делает вся страна – это самоубийство с куда более кровавыми последствиями.
Россия повторила его путь, ибо гениальным инстинктом художника он угадал главное: всеобщее стремление сорваться с места, ибо никакого разрешения внутренних противоречий быть не может. Эта евразийская раздвоенность, вечный конфликт Ветхого и Нового заветов в отдельно взятой стране привели к тому, что миграция стала главным занятием населения, а понятие дома надолго утратило смысл. В 1914 году на фронт поехали эшелоны, в 1922 году на Север, а в 1934 году на Восток поехали «столыпинские» вагоны с арестованными, в 1956 году выжившие вернулись, а молодые устремились на целину, и еще в шестидесятые-семидесятые многие пели, что их адрес – Советский Союз, а бродячая жизнь была идеалом для многих, ибо только безостановочным пожиранием пространства можно было заполнить страшную внутреннюю пустоту. Страна шла по толстовскому пути упрощения, по дороге отказа от условностей, в ней все скучнее и невыносимее было жить – и царство поздней советской империи было почти так же скучно и безблагодатно, как поздняя толстовская проза или его теоретические трактаты.
Несколько раз у страны был шанс определиться наконец, чего ей, собственно, хочется. Но она всякий раз предпочитала срываться с места: вглядеться в себя отчего-то было страшно.
Царство Божие, конечно, внутри нас, но если не допускать, что оно есть и еще где-то,- трудно себе представить, что жизнь вообще возможна. И никаким нравственным самосовершенствованием, никаким непротивлением злу тут ничего не поправишь.
Уход Льва Толстого был радикальным художественным жестом сродни сожжению второго тома «Мертвых душ». Однако повторение радикальных художественных жестов в общественной жизни чревато национальными катаклизмами, единственным последствием которых становится оскудение и вырождение нации. В этом смысле Лев Толстой, безусловно, был зеркалом русской революции. А точнее – она была зеркалом Льва Толстого.
Он не мог, конечно, знать, что уход из родового гнезда обернется приходом в курную избу. Но с ним это и случилось – не захотев умирать на черном кожаном диване, он умер в домике начальника станции. Либо терпеть сложную и душную жизнь со всеми ее несовершенствами, либо соглашаться на многократное преувеличение всех несовершенств и уничтожение того единственного, ради чего стоило терпеть; иного не дано.
2005 год
Дмитрий Быков
В 1926 году главному редактору тогдашнего «Огонька» Михаилу Кольцову пришла в голову ошеломляюще своевременная идея. Врут, когда говорят, что коллективный писательский подряд придумал Максим Горький для «Истории фабрик и заводов». Максим Горький мог придумывать только такие, основательные, безнадежно скучные вещи, с которыми сразу же ассоциируется пыльная красно-кирпичная обложка, плотный массив желтоватых тонких страниц, статистические таблицы и почему-то жесткое, волокнистое мясо, навязшее в зубах. Кольцов, при всех своих пороках, был человек гораздо более легкий, летучий, и дело он придумал веселое: напечатать в «Огоньке» коллективный роман, написанный двадцатью пятью лучшими современными писателями.
Идея эта имела несколько плюсов сразу. Во-первых, налицо был вожделенный коллективный подход к творчеству. В начале двадцатых молодая республика Советов (чуете, как повеяло родными интонациями?) только тем и занималась, что доказывала возможность коллективного хозяйства там, где прежде – в наивном убеждении, что только так и можно,- хозяйничал единоличник. Удивительно еще, что в так называемом угаре нэпа не додумались до группового секса. Первыми объектами так называемой сплошной коллективизации стали вовсе не крестьяне, но именно писатели как самая беззащитная категория населения, пребывавшая, пожалуй, в наибольшей растерянности.
Читать дальше