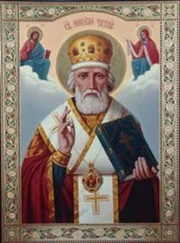Лишь позже появилась необходимость в определении общем, более абстрактном определении жизни, как бренной, физической, так и духовной. Понятно, поэтому, что литературный жанр жития ни в коем случае не репортаж или биография, также как икона – не портрет. Житие являло собой описание духовного подвига, посвященного божественному и все факты приводились в соответствие с этой идеей.
Отметим еще, что 25–е Слово в Киево–Печерском Патерике, впервые описавшее духовные подвиги святителя Никиты не является, строго говоря, житием. Житие св. Никиты написано позже. Киево–Печерский Патерик представляет собой сборник рассказов о монахах Киево–Печерского монастыря и включает рассказы о 30–и святых и предания монастырской истории. Патерик написан по образцу распространенных в восточном христианстве патериков – групповых житийных описаний святых. Он сложился в XIII в. на основе переписки епископа Владимиро–Суздальского Симона (ум. 1226) и монаха Печерского монастыря Поликарпа и затем несколько раз, в XIV–XV вв., а затем в 1460–62 гг. выходили различные редакции с включением иных текстов и сказаний из летописи. Рассказы или «слова» Патерика написаны для нравоучения и подтверждения различных теологических доктрин. «Слово» об искушении Никиты, как и другие рассказы о святых, по мнению Г.М. Федотова, выражают страх печерских старцев перед затвором и монашеским уединением, доктрину о невозможности в одиночку преодолеть дьявольский соблазн, о пользе общежития, утверждение древнего монашеского принципа «один за всех и все за одного». К таким рассказам надо относится точно так же, как и к рассказам о чудесах святых. Попутно заметим, что в XII–XIII вв. страх исчез, и в Печерском монастыре появились святые Феофил, Иоанн или Афанасий, сумевшие победить беса.
Вероятно, во время прославления святого во время царя Ивана Грозного, рассказ о детстве Никиты или о его происхождении был изъят и уничтожен, как это было с сотнями документов Киевской Руси и Новгородской республики. Даже знаменитая конституция, «Правда Ярослава», данная Новгороду в 1016 г. за помощь новгородцев, оказанную в критический момент, была уничтожена московскими дьяками. Из сохранившихся цитат и фрагментов известно, что «Правда» распространяет княжескую защиту на весь дружинно–торговый класс вне зависимости от племенной принадлежности «аще изгой будеть, любо словенин». Все это не подходило для угнетенной террором державы царя Ивана Васильевича, где даже знатнейшие люди обращались к царю «бьет челом холоп твой»
Во время канонизации святителя Никиты в 1558 г. еще живы были очевидцы публичного сожжения в Москве так называемых жидовствующих – дьяка Ивана Волка Курицина. В Новгороде тогда были сожжены архимандрит Юрьева монастыря Касьян с братом, помещик Н. Рукавов и другие. Невестку царя Елену спасло лишь то, что она была матерью единственного законного наследника престола царевича Дмитрия. Даже почившему 500 лет назад святому быть евреем в Московской державе становилось неприлично.
Рассказ о непростой судьбе святителя можно закончить фразой из изданного стараниями Союза русской православной молодежи в Мельбурне «Житий святых мужей» предваряющей пересказ жития Никиты:
Более других заслуживают уважения те воины, кто ведет борьбу с врагом не в общем строю, но поодиночке. Их Господь никогда не оставляет без благодатной помощи, но укрепляет их и делает непобедимыми.
Замечание верное для людей любого вероисповедания, для атеистов, агностиков и даже скептиков.
ЗАЧЕМ ЕВРЕЯМ СВЯТИТЕЛЬ НИКИТА?
Послесловие
«Кто такой еврей?», «что такое еврейство?», «что значит – быть евреем?» – вот вечные вопросы в стремительно меняющейся еврейской жизни. Проблемы самоидентификации неизменно занимают еврейский народ, заставляют пытливый еврейский ум выстраивать парадоксальные определения и ставить мысленные эксперименты. Поэтому поставленный историей опыт существования еврейских индивидуумов и групп, вольно или невольно вырванных из еврейской среды и даже отказавшихся от еврейской идентификации, ставшие «отрезанным ломтем» неизменно привлекал интерес евреев. Эти люди оставались своими, продолжали жить, творить и действовать.
Тема «человека не на своем месте» всегда интересна. Целая школа в литературоведении даже считает ее основным мотивом всей мировой литературы.
Интерес к «своим», разумеется, проявляют не только евреи. Греки, итальянцы, армяне, ирландцы, украинцы, русские, белорусы, мордвины – да, собственно, люди любой национальности живо интересуются историями своих соплеменников, заброшенных судьбой в дальние дали и попавших в необычные ситуации. Но, вероятно лишь у евреев такой интерес затрагивает глубины личной и народной сущности.
Читать дальше