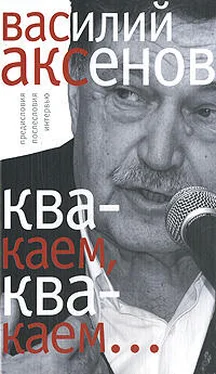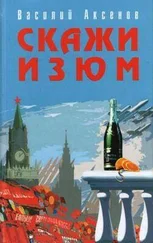Второй раз это случилось в Маниле, на церемониальном военном балу в огромном кабаре Санта-Ана. Зал, величиной с половину футбольного поля, сверкал китайскими фонарями. Двести офицеров подразделения «Филиппинские скауты» в белых мундирах и черных брюках с разноцветными лампасами (пехота с синими, кавалерия с желтыми, артиллерия с красными) и их дамы в длинных испанских платьях с буфами на рукавах исполняли массовую кадриль, в то время как оркестр играл попурри, своего рода музыкальную бурю под сводчатым потолком. Толли смотрел на этот танец с балкона и сердце его воспаряло. «Вот она, наша империя! — думал или, вернее, чувствовал он. — Могучая, неудержимая Американская империя!»
Неподалеку от могилы адмирала уже несколько лет назад упокоена была его дочь Нина. Трагическая нелепость оборвала жизнь 40-летней женщины, матери трех прелестных девочек. Узнав о несчастье, он лег тогда лицом к стене и долго не вставал. «Никочка, что ты так лежишь?» — спросила Владочка. «Я скорблю», — ответил он и долго еще продолжал лежать.
Священник из церкви, которую построил для этих мест прапрадед Толли вместе с соседями-фермерами, читает над его телом заупокойную молитву. «Eternal rest grant to him, o, Lord, and let perpetual light shine upon him. May his soul and all the souls of the faithfully departed rest in peace…» В толпе иные шепчут вслед за ним. Иные сосредоточенно молчат. Третьи обмениваются умиротворенными взглядами и мягко улыбаются, как будто улыбкой этой обращаются к ушедшему, как будто говоря: мы все уйдем за тобой, добрый Толли, мы все уйдем друг за другом, и все пойдут друг за другом, те, кто за нами.
Здесь собрались только те, кому здесь должно было быть: шестеро внучек, родственники и друзья, соседи по графству и прихожане церкви, несколько стариков, служивших когда-то под началом сначала коммодора, а потом и адмирала Толли, офицеры современного флота и Военно-морской академии в Аннаполисе, люди академической компьюнити из университетов Гаучер и Джонс Хопкинс, с которыми семья Толли была связана в течение долгих лет. Порой могло показаться, что сам адмирал Толли стоит среди людей, по нему скорбящих. А вокруг лежали голубоватые холмы, по которым, словно в унисон с общим умиротворением, медленно прогуливались вальяжные меэрилендские лошади.
Я подумал, что впервые оказался в истинной сердцевине страны, что дала мне приют после изгнания с родины. Так или иначе, но именно такие тесные собрания лиц, преимущественно продолговатых, с высокими лбами, с твердыми подбородками, провожающие в последний путь основного старика округи, являются всякий раз сердцевиной того, что он подразумевал под словом Империя.
Я как русский, быть может, вообще не понимаю этого слова. Пока я рос, это слово никогда не употреблялось по отношению к Советскому Союзу. Я только лишь ощущал себя во власти чего-то столь же мрачного, сколь непреодолимого. Когда я вырос и осмелился размышлять, то понял, что живу в подлой и коварной социалистической империи, почти адекватной тюрьме.
Восторг, который испытывал Кемп Толли в иные минуты от ощущения принадлежности к Американской империи, связан с солнцем и ветром на мировых просторах, с запахом виргинского табака и женской парфюмерии, с парящими флагами и всегда с музыкой, будь то военный оркестр или танцевальный биг-бэнд.
Мои восторги, солнце и ветер, и запах виргинского табака, и женская прелесть так или иначе были прорывами из уз империи. Для адмирала Толли империя соединялась с понятием всеобщей свободы. Для меня свобода возникала при распаде империи. Увы, в той и в другой концепции, как это то и дело бывает на загадочном «пути Адама», возникают тупиковые противоречия, Вдохновенный империализм Толли так или иначе неотрывно связан с перемещениями, сближениями и разъединениями гигантских стальных тел, с крейсерами и авианосцами, с мобильными армадами страны свободы, так далеко уходящими от маленького холма в Мэриленде, да и вообще с гигантоманией и другими бесчисленными парадоксами этой страны.
Неизвестно откуда взявшийся долговязый офицер начинает отдавать лающие команды. Почетный караул совершает последнее перестроение, поднимает короткие карабины. После долгих странствий Нику опускают в его любимую землю. Троекратный салют. Церемония завершена.
В начале года я нашел в своей почте пакет из Санкт-Петербурга. В нем оказался восьмисотстраничный том сочинений Юрия Казакова, изданный «Азбукой-классикой». Петербурженка Ирина Киселева, приславшая мне этот исключительный дар, в трогательной диагональной надписи писала, что шлет мне эту книгу «на память о друге». Я начал читать все то, что уже читал в те старые годы вроссыпь, в различных журнальных публикациях, и уже не мог оторваться от этих тридцати рассказов, тринадцати текстов «Северного дневника» и еще одной чертовой дюжины фрагментов, и не только потому, что все это относится к вершинам российской словесности, но и потому, что за всей этой прозой видел Юру, литературного кореша, с которым часто выпивали, нередко и бузили, несли смешной вздор и говорили о серьезном. Эффект присутствия рано умершего автора был сравним только с выдающимся фильмом Аркадия Кордона «Послушай, не идет ли дождь», в котором замечательный артист Петренко возродил Юрия Казакова.
Читать дальше