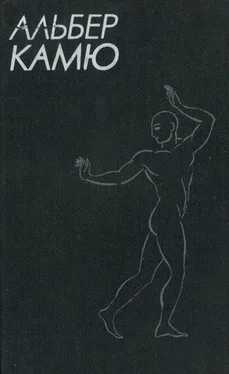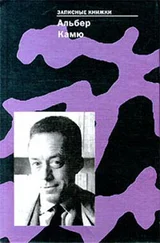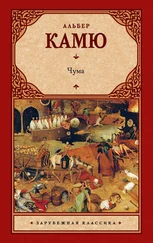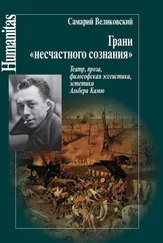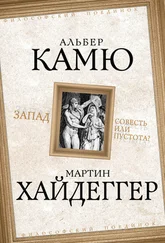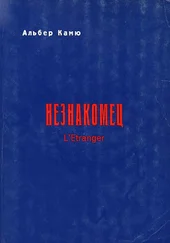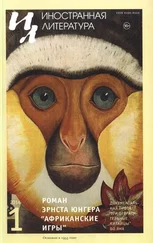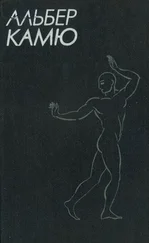Напомним, однако, что хотя Ницше многое почерпнул у Шопенгауэра, он, исходя из того же, полностью ниспровергает положения его философии. Оба брали за основу страдание, но если Шопенгауэр утверждал на этой основе демократическую мораль, то Ницше — мораль аристократическую, мораль Сверхчеловека; если Шопенгауэр пришел к безнадежному пессимизму, Ницше пришел к оптимизму, основанному на опьянении страданием.
Остановимся на этом вопросе. Действительно, в глазах многих, Ницше — оптимист. Однако, выражая наше личное мнение, заметим, что при чтении его книг возникает вопрос: не кроется ли за этими прекраснейшими, поэтичнейшими призывами к искупительной боли душа, исполненная пессимизма, но отказывающаяся быть таковой? В самом деле, в его упрямом оптимизме есть что-то неистовое, словно какая-то непрестанная борьба с отчаянием, — и это, на наш взгляд, самое привлекательное в и без того необычной фигуре Ницше.
В этом мнении нас могла бы утвердить безмерная гордыня Ницше, гордыня, которою он, словно панцирем, прикрывал чувствительную натуру поэта и художника, гордыня, достойная уважения, ибо за нее было заплачено одиночеством.
Выше мы говорили, что существует два аспекта эстетики Ницше: один основан на идеях Шопенгауэра, другой, напротив, отчасти отвергает эти идеи. Изложим здесь первый и наиболее важный из них, содержащийся в «Рождении трагедии».
Ницше отталкивается от естественных наклонностей человека (в его труде — древнего грека), чтобы прийти к необходимым выводам. В самом деле, нельзя не согласиться с тем, что мы любим грезить, что нам нравится жить воображаемой жизнью, во сто крат более прекрасной, чем настоящая. Причина в том, что мы ощущаем потребность в забвении собственной личности, в отождествлении со всем человечеством. У Ницше это называется аполлонизмом, иначе говоря, потребностью преобразить действительность через мечту. Это своего рода экстаз, символом которого является экстатический Аполлон. В то же время нас обуревает другой инстинкт, символ которого — Дионис, бог, разрывающий путы. Дионисический инстинкт погружает нас в стихию опьянения, и в итоге мы забываем о собственной личности. Оба эти инстинкта, каждый по-своему, воздействуют на нас, заставляя забыть о том, что есть тягостного в существовании. У древних греков эта потребность была сильнее, чем у какого-либо другого народа, и, по мнению Ницше, можно различить две стороны их гения. Вначале дух греков спешит раствориться в дионисийстве, а затем, чтобы обуздать этот порыв, ему приходится обратиться к аполлонизму. Ведь, после того, как в Греции долгое время справлялись оргиастические обряды, когда охваченная священным безумием толпа, уподобляясь первобытным существам, сатирам и нимфам, предавалась неистовому сладострастию, — пришлось совершить могучее усилие, чтобы обуздать дионисическую жажду опьянения, очарованности, и прийти к чему-то более чистому и более идеальному. И вызвано это усилие не потребностью в совершенной идеальности, как считалось слишком долго. Творческая сила, создавшая безмятежную красоту, красоту аполлоническую, питалась главным образом страданием, которое у эллинов играло гораздо более важную роль, чем у остальных народов.
«Концепция красоты у греков порождена страданием» — на этом Ницше строит свою теорию.
Действительно, аполлонизм и дионисизм порождены потребностью уйти от слишком горестной жизни. Греков терзали политические дрязги, честолюбие, зависть, всевозможные проявления жестокости. Но у других народов происходит то же самое! — возразите вы. Бесспорно, так, но эллины с их чувствительностью, с их восприимчивостью были наиболее склонны к страданию. Они острее других ощущали ужас своего существования, а потому были обречены на варварский дионисизм. Отсюда и потребность излечиться от дикарских крайностей, создавая образы, или, вернее, грезы, более прекрасные, чем у прочих народов.
Для достижения этой цели они использовали танец и музыку. Мистическое опьянение они сумели подчинить ритму. Так они создали искусство, которое в равной степени удовлетворяет чувство и воображение. Так они создали трагедию.
Как мы уже знаем, мышление греков было проникнуто горьким пессимизмом. (Что может быть мрачнее греческого афоризма: «Счастье в том, чтобы не родиться»?) Но присущая грекам мечтательность помогла им забыть о жизни. Они не попытались сделать жизнь приятнее, они вытеснили ее мечтой и подменили реальное существование красотой и опьяненностью. Это и была безмятежная ясность древнегреческого мировосприятия. То, что Шиллер называет «древнегреческой плавностью», вовсе не было наивным. Это прежде всего способность отстранить от себя жизнь и грезить: единственное существование — это аполлиническое существование, а жизнь — всего лишь иллюзия. Поэтому эллины всегда призывали к неведению жизни. Они жестоко карали тех, кто стремился к знанию: Сократу пришлось выпить цикуту.
Читать дальше