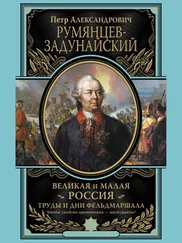Не хочу, чтобы у читающего эти записки возникло впечатление, что мы были близкими друзьями. В отличие от Рейна, Наймана, Уфлянда, действительно друживших с ним и на житейском уровне, нас связывали прежде всего и главным образом поэтические интересы.
И стихи Бродского по-прежнему оставались частью моей жизни, при этом они менялись, становились еще прекрасней, еще безутешней. Впрочем, куда же еще прекрасней, если еще здесь, в России, он написал “Письма римскому другу” — одно из лучших стихотворений в нашей поэзии. Но там, за границей, в его стихах произошла смена лирического героя, появился “совершенный никто, человек в плаще”, странствующий изгнанник, и мы, подставляя себя на его место, смогли увидеть его глазами и Рим, и Венецию, и Новую Англию, и Лондон, и Париж... Об этом я писал в своих стихах 1974 года, напоминающих, по-видимому, “пропемптикон” — античные стихи на отъезд друга:
Взойдя по лестничке с опаской
На современный пироскаф,
Дуреху с кафедры славянской
Одной рукой полуобняв,
Для нас, тебя на горизонте
Распознающих по огням,
Проверь строку из Пиндемонти,
Легко ль скитаться здесь и там?
Эти стихи тогда не могли быть опубликованы, но Бродский знал, что я о нем помню и думаю. В моей книге “Прямая речь” (1975) он появился в двух стихотворениях. Во-первых, в стихах “Посещение”:
Приятель мой строг,
Необщей печатью отмечен,
И молод, и что ему Блок?
“Ах, маменькин этот сынок?”
— Ну, ну, отвечаю, полегче!..
Он не мог не узнать себя в этой строфе, поскольку его высказывание о Блоке было воспроизведено в абсолютной точности, а молодость и “необщая печать” дополняли портретную зарисовку. О Блоке мы с ним, действительно спорили. Когда-то в юности он обожал Блока. Моя жена, с которой мы познакомились уже после его отъезда, рассказывала, как в одной молодой компании, на свадьбе, когда его попросили поднять тост, он встал и, побледнев от волнения, сказал, к общему изумлению: “Предлагаю выпить за Блока!” А потом разлюбил, блоковские стихи уже казались ему жидкими, водянистыми. Что касается меня, то я Блока то любил, то разлюбливал, то опять любил... и так всю жизнь, до сих пор. Но стоит мне открыть книгу и прочесть “Последнее напутствие”, как все становится на свои места: и не нужна никакая виртуозность, никакие стиховые новшества, — вот последняя правда о жизни, самая печальная и неотразимая в своей безыскусности. (Кстати сказать, эти стихи не такие уж безыскусные: скрытая, тайная рифмовка каждого третьего стиха в пятистрочной строфе с третьим стихом в соседней — тому незаметное, но сладкое, скорее для глаза, чем для слуха, подтверждение.)
И в той же моей книге Бродский мог узнать себя в стихотворении “В кафе”, построенном на перекличке с его “Зимним вечером в Ялте” — он появился в последней строфе, как одно из самых дорогих видений: дороже Ялты, кораллового рифа, “что вскипал у Моне на приехавшем к нам погостить полотне”; речь в стихотворении шла о волшебном перстне:
А как в третий бы раз, не дыша, повернуть
Этот перстень — но страшно сказать что-нибудь:
Все не то или кажется — мало!
То ли рыжего друга в дверях увидать?
То ли этого типа отсюда убрать?
То ли юность вернуть для начала?
Я упомянул о перекличке этих стихов с его стихотворением. Именно в это время стихи Бродского оказали некоторое влияние на мою собственную поэтическую работу. Укажу на стихотворение “Сложив крылья”, написанное вослед его “Бабочке”, и “На скользком кладбище, один...” (из книги “Голос”, 1978). Впрочем, мне кажется, я не заходил на его территорию, мы оба охотились в своих поэтических урочищах, и в названных стихах то, что я назвал влиянием, скорей следует обозначать как повод для создания своих стихов.
6 декабря 1987 года группа писателей (Гранин, Голышев, Искандер, Мориц и я) по приглашению Пэн-клуба прилетела в Нью-Йорк. Для меня это было первое в жизни посещение свободного мира. Эту поездку пробивал Бродский, поставивший условие: не вычеркивать из списка Голышева и Кушнера, — до этого меня всегда выбрасывали из всех списков. К нам, правда, был еще приставлен один московский литературовед, который, впрочем, всю поездку пил так, что, можно сказать, прямыми своими обязанностями не занимался.
Как раз в это время Бродский находился в Швеции, где ему вручали Нобелевскую премию. В Нью-Йорке и Бостоне мы были без него, а 13 декабря, уже в вашингтонской гостинице, я спускался по лестнице и услышал: “Саша, посмотри, кто тебя ждет!” Это был Бродский. Мы обнялись и так постояли с полминуты, а затем вышли на улицу, чтобы скрыть от чужих людей, толпившихся в вестибюле, свое волнение. Толстой ценил в Библии то место, где Иосиф, увидев своих братьев во дворце фараона, выходит в соседнюю комнату, чтобы незаметно утереть слезы.
Читать дальше