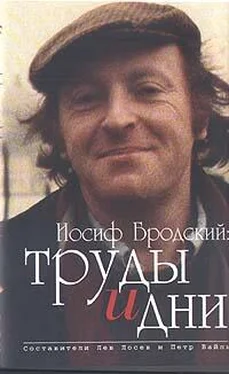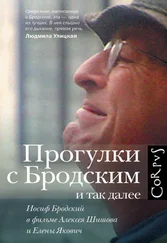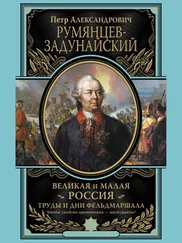К концу этой книги читатель привыкнет к странным, не по-английски звучащим именам и у него даже начнут возникать кое-какие подозрения относительно стихотворных ритмов. “Несомненно, переводчик меня разыгрывает! — воскликнет он. — Это же просто-напросто стилизация. Переводчик пользуется старомодным лексиконом, чтобы создать впечатление отдаленности, иного века”.
Такое замечание будет справедливо лишь в той степени, в какой поддается измерению дистанция между современным и столетней давности способом высказывания. Как ни молода была русская поэзия сто лет назад, по крайней мере метрически она была не менее зрелой, чем ее западные сестры. Если музыка этих стихов иногда покажется вам знакомой, это не потому, что г-н Алан Майерс недостаточно постарался, а потому, что размеры есть размеры, независимо от того, в каком языке они используются. На то они и размеры.
На самом деле мы должны быть благодарны г-ну Майерсу за его последовательные старания сохранить как можно больше формальных аспектов оригинала. Если в результате перевод напоминает стихи, которые писались по-английски сто лет тому назад, то и хорошо. Что диктует переводчику выбор той или иной вещи для перевода с иностранного языка, так это наличие соответствующих выразительных средств в его собственном. Впрочем, вышеупомянутое сходство вряд ли будет обнаружено. Кстати, было бы вообще ошибкой искать английские или американские параллели Евгению Баратынскому, князю Вяземскому, Александру Пушкину или Федору Тютчеву, Михаилу Лермонтову или другим. Их нет. Однако избегать таких поисков надо не столько из-за их тщетности, сколько из-за опасения, что думая параллелями пропустишь действительность. Чуждый самой природе литературы, такой тип анализа сокращает вашу способность к видению экзистенциальных вариантов, в конечном счете компрометирует само время.
Преимуществ “знания задним числом” в таком типе мышления нет. Глядя сквозь окошечко этой антологии на XIX век, мы должны стараться увидеть его каким он был на самом деле, как он понимал сам себя. Не следует применять здесь нашу современную оптику, поскольку ее высокая разрешающая способность позволяет ясно видеть детали за счет целого, тогда как главным достоинством XIX столетия была способность держать в фокусе и то и другое. Потому-то переводчик и старался сохранить как можно больше особенностей оригинала. Таким путем нам, вероятно, удастся лучше рассмотреть прошлый век, его благородную, хотя и потрепанную фигуру, собственно говоря, силуэт кого-то, кто родился при Аустерлице, умер при парламентах и паровозах и в качестве будущего имел нас.
/16 января 1986/
/Перевод Л. Лосева/
Иосиф Бродский.Из заметок о поэтах XIX века
Иосиф Бродский.Из заметок о поэтах XIX века
О Вяземском
Превосходного, хотя и недооцененного, поэта Вяземского обычно именуют классицистом, вероятно, из-за его склонности к александрийскому стиху и из-за ясности содержания. Лучшим обозначением было бы “критический реалист”, хотя бы ввиду сатирико-дидактического тона и характера большинства его стихотворений. Его стихи, зачастую простые описания или
послания, скорее повествуют, сообщают, спорят, предполагают, чем поют, и их воздействие на читателя скорее постепенно накапливающееся, чем мгновенное. Типичное стихотворение Вяземского стремится нечто доказать и в своем развитии вбирает в себя большое количество разнообразного материала и тональностей. Окончательным результатом является ощущение не нашедшего разрешения лиризма или, точнее, колоссальный лирический осадок: строки сложились в нечто большее, нежели то, на что претендовало содержание. И политические, и эстетические взгляды Вяземского ориентировали его стих на разговорную речь; в этом смысле он был не только ближайшим из всех друзей, которых Пушкину довелось иметь, но и предшественником Пушкина. Вяземский, однако, был поэт из тех, для кого мысль в стихотворении важнее гармонии, кто готов пожертвовать музыкальностью и балансом ради сложности и точности мысли. Слишком часто он сам признавался в этом предпочтении, чтобы кто-то мог отнести это свойство к числу его недостатков. К тому же ничего иного и нельзя было ожидать от того, кто, оставшись сиротой в девятилетнем возрасте, получил в качестве опекуна Николая Карамзина, автора “Истории государства Российского”. Актуальные и смешные, остроумные настолько, что это порой почти мешает (как, например, “Русский бог”, стихотворение, переведенное Герценом для Карла Маркса, в чьих архивах оно и сохранилось), стихи Вяземского последнего периода отмечены все более и более мрачным взглядом на мир, с которым у автора все меньше и меньше общего. Вяземского исключительно интересно читать, потому что он никогда не лжет. Он также оставил изрядное число совершенно великолепных критических сочинений. Еще важнее, особенно для интересующихся той эпохой, его “Записные книжки”, с их смесью анекдотов, афоризмов, набросков политических фигур, современных сплетен и дел литературных. Тут он наш Шамфор и Ларошфуко в одном лице.
Читать дальше