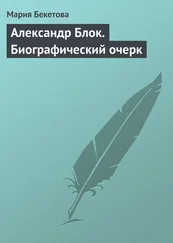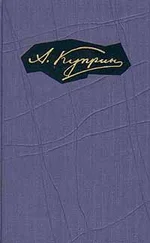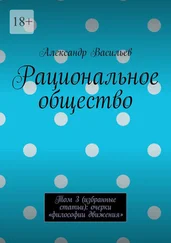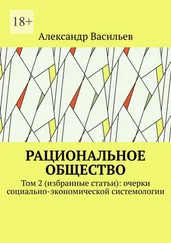Невысокая цена и лубочность издания указывают на то, что книга предназначена для широких масс. Зачем? Это — несерьезность, производящая неприятное впечатление.
Октябрь 1909
М. Пришвин. У стен града невидимого
Москва, 1909
М. Пришвин напрасно называет свою вторую книгу «повестью». Она может быть названа путевыми «записками» точно так же, как и первая книга его «За волшебным колобком», — записки о крайнем севере России и Норвегии.
М. Пришвин прекрасно владеет русским языком, и многие чисто народные слова, совершенно забытые нашей «показной» и по преимуществу городской литературой, для него живы. Мало этого, он умеет показать, что богатый словарь, которым он пользуется, и вообще жизнеспособен, что богатства русского языка доселе еще далеко не исчерпаны.
К сожалению, М. Пришвин владеет литературной формой далеко не так свободно, как языком. От этого его книги, очень серьезные, очень задумчивые, очень своеобразные, читаются с трудом. Это — богатый сырой материал, требующий скорее изучения, чем чтения; отсюда много могут почерпнуть и художник, и этнограф, и исследователь раскола и сектантства. Для последнего особенно важна книга «У стен Града Невидимого», дневник путешествия на озеро Светлояр, ко граду Китежу, прибавляющий нечто новое к впечатлениям такого же «дневника» 3. Гиппиус («Светлое озеро», напеча<���танного?> в журнале «Новый путь», а потом — в книге «Алый меч»).
Октябрь 1909
Рассказы. Изд. «Общественной пользы», СПб., 1909
«Стояла женщина, такая юная, что казалась ребенком, безгрешным, призрачным и прекрасным. И было чудно — не верилось, что возможна эта прозрачная, волшебная красота здесь — на грубой, жирной и плотяной земле. Казалось трепетным сном, одним из тех, что снятся в часы тяжелой, долгой болезни, когда внезапно становится легко, печально, сладостно и страшно, как перед тайной нездешнего бытия».
Так пишет г. Премиров на той 261-й странице своей, состоящей из 400 страниц, книги, на которой остановился я. Остановился и как будто проснулся. Читаешь незаметно, точно во сне, десятки страниц, увлекаясь истинно современной беспредметностью. Все, как бывает, до мельчайших подробностей, в жизни, тупо, бессмысленно, безвыходно, плоско: кто-то в пьяном бреду, кто-то мечтает, кто-то влюблен, кого-то изнасиловали. Сапожники, рабочие, студенты, проститутки. И нет им конца; нет счета, как песку морскому и звездам небесным, человеческой гадости, человеческой бессознательности, человеческой несчастности и… рассказам г. Премирова. От него не спастись, как от кодака: все, что заметит, тотчас отобразит; а мало ли можно было «кой-чего» заметить в те ужасные и милые годы, которые все мы пережили? Это недалекое прошлое окутал серенькой вуалью г. Премиров, а с ним вместе десятки рассказчиков. Серенький, серенький и милый мир, баюкающий тем, что, как ни гляди, не заметишь над ним самой бледной, самой неполноцветной радуги искусства.
И на востоке и на западе — равно идет дождь; плачешь вместе с этим дождем, умиленно сложив бездейственные руки.
Но едва долетит до слуха неожиданный и посторонний звук из иного, солнечного мира, — проснешься и вспоминаешь, где был и что видел. Нигде не был, не видал ничего.
Ни о чем не пишет г. Премиров, он, в сущности, молчит, его сознание ничем еще не встревожено. Молчит и смотрит на своего читателя простыми, грустными и вопрошающими глазами, гипнотизирует. И все, о чем молчит, так привычно, знакомо и отупительно, что при благоприятных обстоятельствах можно не проснуться до 261-й страницы.
Октябрь 1909
Сергей Кречетов. Летучий Голландец
Вторая книга стихов. Книгоиздательство «Гриф», Москва
Стихотворения С. Кречетова не прельщают новизной и свежестью. Главные недостатки их — подражательность и торжественность, далеко не всегда уместная, — сказались еще в первой «Алой книге» его стихов. Он склонен к шумихе слов, иногда переходящей в банальность («Корсар»), иногда — к модным сюжетам («Дровосек»).
Несмотря на то, что С. Кречетов не нашел своего, ему одному принадлежащего, мира, надо признать, что он любит мир поэзии вообще, и любит его по-настоящему, заветной любовью. Если он не поэт, то у него есть заветное в искусстве, о чем сам он говорит в стихотворении, озаглавленном «Младшим судьям»:
Так! Я не поэт! Но моей багряницы,
Шутя и смеясь, не снесу я на торг.
По-видимому, любовь С. Кречетова к миру поэзии, где нет суеты и корысти, растет. По строгости выбора и по форме значительно превосходит первую. Здесь С. Кречетов уже не только искусно подражает, он порою преломляет по-своему напев и размеры других поэтов. К сожалению, влияние на него оказывают пока исключительно представители «нового искусства» и главным образом его русские современники. Его переживания стали бы глубже, сложней и разнообразней, если бы он причастился также поэзии других веков.
Читать дальше