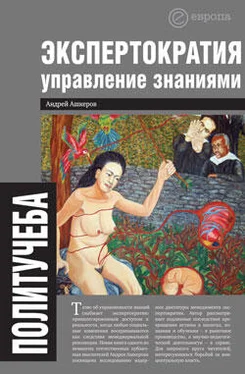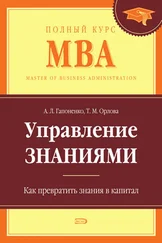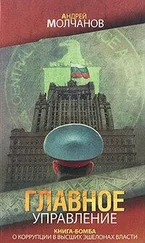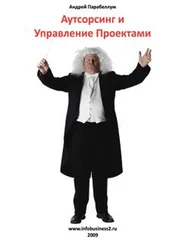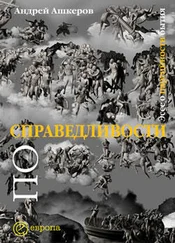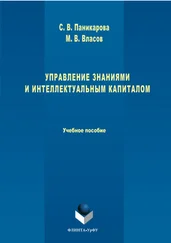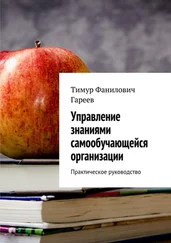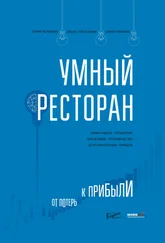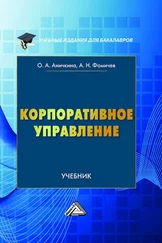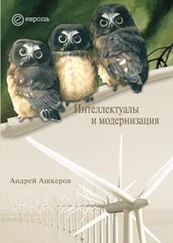Формирование общества, основанного на знаниях. Новые задачи высшей школы. 2003.
Формирование общества, основанного на знаниях. Новые задачи высшей школы. 2003. С. 31.
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. http://www.buk.irk.ru/library/book/texts/mankast/theend/news.htm
См. на эту тему интересное рассуждение: Крылов К. Комфорт как идея Европы. 2008. http://www.apn.ru/special/articlel9547.htm
Первоначально понятие «человеческий капитал» было введено в научный обиход апостолом современного экономикоцентристского мышления Г. Беккером в одноименной книге 1964 года [Becker, Gary S. Human Capital. N. Y.: Columbia University Press, 1964]. Беккер понимал под человеческим капиталом совокупность знаний, навыков и умений работника, расходы на которые могут приносить прибыль как ему самому, так и его работодателю. Основной целью Беккера являлся расчет экономической эффективности образовательной деятельности. За разработку теории человеческого капитала были присуждены целых две Нобелевские премии – Т. Шульцу в 1979 и Г. Беккеру в 1992 году.
Последовательное разведение стоимостей и ценностей создает эффект их последующего тождества, который, собственно, и описывается понятием капитала. Демаркация ценностей и стоимостей в отечественной социальной теории связано с возобладавшей во времена нэпа стратегией перевода «Капитала» К. Маркса. Воспритие этой работы как энциклопедии ценностного анализа сближало основоположника научного коммунизма с кантианцами – именно этот герменевтический ход был характерен для «умеренных» социал-демократов во главе с К. Каутским. В противовес герменевтике ценностей более радикальные большевики предложили для прочтения основного труда основоположника герменевтику стоимостей, базирующуюся на противопоставлении объективных сторон действительности ее субъективным аспектам. В результате капитал оказался экономической категорией, описывающей институциональный и инфраструктурный аспекты жизнедеятельности, но не политэкономию сублимаций, устанавливающую баланс представимого и непредставимого, а также раскрывающую в форме этого баланса способы быть субъектом.
В ситуации местного и общемирового гиперкапитализма интеллектуалы – сиречь гуманитарная интеллигенция, которая любит так себя называть, – оказались в загоне. И не потому что их не любят, не понимают и «недофинансируют». Просто сама модель существования местного интеллигента сопряжена со снятием покровов, разоблачением. Именно разоблачительным был, например, пафос отечественных диссидентов. На этом замешан весь высокотеоретичный критический дискурс. Разоблачение чего-то или кого-то и есть единственная форма самообмана, на которую способен любой честный интеллигент. Собственно, в этом состоит основа и суть его честности. Однако гиперкапиталистические отношения предполагают такое разнообразие форм обмана и самообмана, что от любых разоблачений веет невнятным занудством. Активные участники гикеркапиталистической игры действуют по принципу: «Обмани другого, пока он не обманул тебя!» Но обман может состояться лишь как продолжение более-менее изощренного самообмана. Поэтому сущестует огромный спрос именно на инновационные формы лицемерия самим себе, к поиску которых и сводится, собственно, вся инновационность в сфере социальных технологий. Мыслителем, который одним из первых отреагировал на наличие упомянутого спроса, является, безусловно, Славой Жижек, превративший постпсихоанализ Жака Лакана в консюмеристскую теорию либидиозного менеджмента и бессознательных инвестиций. Средний потребитель склоняется к тому, чтобы использовать в освоении этих технологий ресурсы собственного бессознательного (которое, как известно, всегда хитрее нас), нежели рефлексивную рецептуру, предлагаемую патентованными специалистами.
Впрочем, у интеллигенции все еще есть определенный шанс заняться продуцированием и тиражированием инновационных моделей самообмана. Однако чтобы им воспользоваться, необходимо понять как самообман разоблачительный дискурс.
Симптоматично, что подобная трансформация в первую очередь касается чиновников и управленцев, занятых в образовательной сфере. Более того, именно академические и вузовские администраторы нередко выступают носителями канонического и даже несколько неправдоподобного в своей категоричности рыночного сознания. Мне вспоминается интервью с одной известной в прошлом министерской радетельницей надзора и качества образования, которое бралось мной в бытность главным редактором журнала «Платное образование». На скромный вопрос об оправданности невиданного роста числа вузов при, мягко говоря, серьезном ухудшении качества образования статусная министерская дама ответствовала, глядя на меня с каким-то недобрым удивлением: «А таково сегодня требование рынка, рынок сам решает, сколько и чего нужно, сам все расставляет по местам». Именно так – рынок выступает мистической структурой, которая сама за всех думает, все за всех решает, каждому сверчку определяет его шесток и ничего не упускает из виду…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу