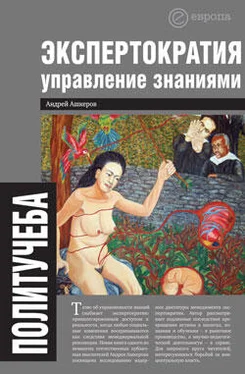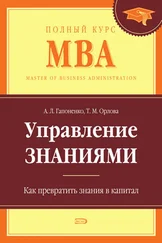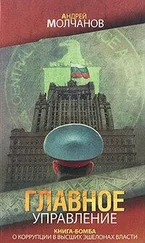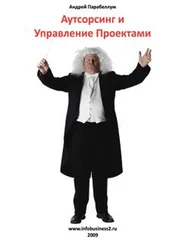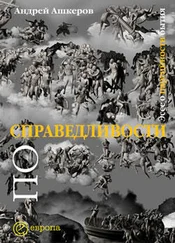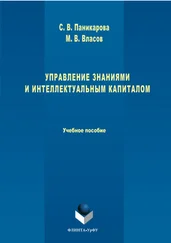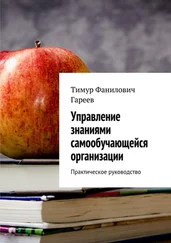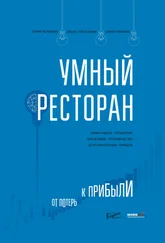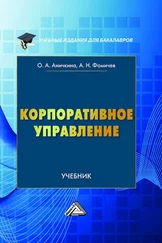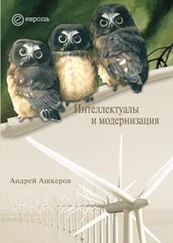1 ...8 9 10 12 13 14 ...58 Вплоть до начала XX века функции университета как элемента государственной машины менее значимы, нежели его функции как самостоятельной институциональной структуры, унаследовавшей некоторые стороны широкомасштабной автономии, которой вплоть до эпохи Нового времени была наделена Церковь. Секуляризация познавательной деятельности не только не препятствовала тому, что университет выступал в этом вопросе своеобразным наследником Церкви, но, наоборот, способствовала данному процессу. При этом образовательная система:
а) придавала системный характер изменениям;
б) преобразовывала тактические решения в стратегические подходы;
в) генерализировала деятельность отдельных действующих лиц и/или институтов;
г) открывала обществу возможность самонаблюдения;
д) возводила рефлексивный мониторинг социального бытия в ранг условия осуществления повседневной политической практики.
Превращение университета в составляющую национально-государственной структуры происходило лишь в рамках принятия специфических условий, когда он оказывался своеобразным государством в государстве. Эти условия были продиктованы государством лишь после того, как сам университет оказался в состоянии предопределить свою современную форму. Претендуя на полный контроль над умами и сердцами, государство позаимствовало у университета техники дисциплинарного воздействия, способные превращать составляющие социальной дисциплины (муштру, заучивание, повторение и т. д.) в предпосылки ментальной дисциплины. То есть в предпосылки устраивающего государственные органы порядка в головах своих граждан.
Окончательное огосударствление университета становится возможным только тогда, когда он добровольно отказывается от миссии государства в государстве и мыслит себя лишь в качестве одной из корпораций, обладающей равным статусом со всеми остальными.
Так происходит и в тех случаях, когда само государство довольствуется скромной миссией корпорации: первой среди равных. Даже при таком, казалось бы, вполне благостном раскладе университет перестает выступать инстанцией, ответственной за постижение истины. Напротив, он начинает представать как специфическое образование, связанное с интеллектуальным сервисом, культурным досугом, духовной рекреацией и даже физическим воспитанием.
С этого момента такие возможные характеристики современного университета, как:
а) впечатляющие архитектура/интерьеры;
б) технологическая оснащенность;
в) инвайроментальная эргономика;
г) экономическая успешность;
д) политическая корректность, начинают превалировать над теми качествами, которые со времен фон Гумбольдта считались его традиционным достоянием. [12]
Речь идет о таких вещах, как дидактика и научный поиск, связанных, опять-таки со времен Гумбольдта, узами продуктивного симбиотического союза. С одной стороны, данный симбиоз предполагал, что научить можно, только привлекая к исследованиям, результат которых, скорее всего, непредсказуем, а финал – наверняка открыт. С другой стороны – в рамках данного симбиоза невозможна иная постановка вопроса, кроме той, что осуществлять исследования можно, лишь постоянно обучаясь и беспрестанно обучая других.
Ко второй половине XX столетия в западном университетском сообществе (и только к началу XXI века у нас) произошли процессы, настолько отдалившие университеты от идей фон Гумбольдта, что теперь эти принципы в лучшем случае могут показаться идеалами, а в худшем – утопиями.
Это стало ясно уже тогда, когда в связи с университетской реформой в Федеративной Республике Германии 50-х годов прошлого века не удалась попытка реанимировать принципы гумбольдтовского университета, предпринятая знаменитым философом и психологом Карлом Ясперсом.
Несколько позже романтическая надежда на возможный ренессанс подходов фон Гумбольдта была подвергнута острой критике со стороны немецкого социолога Юргена Хабермаса.Хабермас выступил против сословной идеологии университетских «мандаринов», претендующих на то, чтобы мыслить универсалиями, и заявил, что их место давно занято не менее могущественным сословием «экспертов», владеющих специфическим, узкопрофессиональным знанием, которое не может быть объединено в некую всеобъемлющую систему.
Философия корпоративного университета, готовящего узких профессионалов, которые ориентированы не на универсалистское, а на экспертное знание, более всего соответствует представлениям испанского мыслителя и публициста ХосеОртеги-и-Гассета. Кредо Ортеги-и-Гассета состояло в том, что университет должен давать высшее образование среднему человеку. По мнению испанца, у среднего человека нет никаких причин становиться ученым: «…Наука, – как писал Ортега, – не является прямой и базовой функцией университета и без особых причин не должна являться таковой».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу