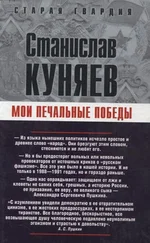Через свою белорусскую агентуру он каким-то полулегальным образом достал на время подстрочник поэмы, снял с него копию, и мы, торжествующие, бросились обратно в Москву, чтобы засесть за работу.
Однако в несчастливый день, видимо, эта великолепная идея пришла в голову моему другу.
Поэма действительно замечательная, полная шума лесов, звона оружия, воинских и охотничьих страстей, созданная на латыни в начале XVI века, — в нашем вдохновенном переводе, к сожалению, не привлекла внимания ни одного столичного журнала и ни одного центрального издательства.
Разочарованию Игоря не было предела.
— Суки! — стучал он кулаком по столу. — Им бы все издавать Роберта Рождественского да Ваську Федорова! Где справедливость? Нет правды на земле!
Судьба "Песни о зубре", или "Корриды в Беловежье" — как мы ее называли, долго не давала ему покоя.
"Друг! Я еще раз насладился чтением "Корриды". Надо показать ее начальству "Новогомира" и отнести в Гослит. Вероятно, я залягу с аппендицитом, надо его вырезать, хожу скорчившись. Если есть время, займись пока нашим делом один. Новостей нет. Хвораю. Ну вот и все, если не писать о главном — в Могилёве ранняя, теплая, бурная весна, лед на реке чернеет, в воздухе стоит запах сырых деревьев, а ночью всё звенит.
Обнимаю тебя. Игорь".
Так и пролежала "Песня о зубре" четверть века у нас в столах до нашего окончательного разрыва и до нашей старости. Несколько лет тому назад я перечитал ее, пожалел о затраченном вдохновении, и поскольку издавать перевод под двумя фамилиями было нелепо, взял и доперевел Игореву половину поэмы.
Полностью в моем переводе она наконец-то в 1998 году была издана не где-нибудь, а на родине Игоря в Белоруссии, где и положено ей быть изданной. Мне кажется, что Игорь тоже сделал свой вариант полного перевода. По крайней мере он пишет об этом в книге "Поэзия — львица с гривой". Но ни больших денег, ни славы не получилось ни у меня, ни у него. Правда, как бы продолжая осуществление авантюрного замысла, он в 1985 году вдохновенно пересказал "Слово о полку Игореве", заработав наконец-то деньги и славу. И совершенно заслуженно. В "Песне о зубре" есть строки, которые сейчас, когда я пишу эту главу, невольно вспомнились мне:
Ставлю ловушки для сердца, для памяти — сети,
Но невозможно поймать убежавшее время!
Коли ушло и погибло, то пусть погибает.
Мы не всесильны. Судьбе не навяжешь законов.
* * *
Конечно, любимым его поэтом был Лермонтов.
Земные взоры Пушкина и Блока
Устремлены с надеждой в небеса,
А Лермонтова черные глаза
С небес на землю смотрят одиноко.
Велик соблазн походить на Лермонтова сиротством при живых родителях, одиночеством, внешностью, капризами, презрением к роду людскому, словами "облитыми горечью и злостью", и полным нежеланием понимать чужую душу — особенно женскую… Но если кого он и любил "безумно, безнадежно", то свою первую жену, с которой познакомился при мне на Новом Арбате, которую я сватал ему, смутно понимая, что ничего из этой затеи путного не получится, потому что все выглядело крайне смешным: и знакомство, и сватовство, и свадьба, и тем более семейная жизнь. Одно утешение, что у Лермонтова все было бы точно так же. Одни стихи только получились не смешными, можно сказать, с лермонтовским клеймом:
Два облака белых плывут по лазури,
Стоит ослепительный зной.
Ну вот мы и встретились после разлуки!
Невечной разлуки земной…
Над жизнью, в которой мы прочно забыты,
Над синим холодным Днепром,
Над кладбищем, где мы не рядом зарыты,
Сегодня мы рядом плывем.
Два облака белых… Одно розовеет,
Над миром приветствуя день.
Другое опять отдалиться не смеет,
Лежит на нем первого тень.
Нам встретится дым! И о юности милой
Ты вспомнишь и нежно взгрустнешь.
Я ливень пролью над твоею могилой…
А ты над моей не прольешь.
Ты первой иссякнешь в пылающем небе,
Рванусь за тобою, звеня!
Но в клевере, в глине, в полыни и в хлебе
Ты разве дождешься меня?
Два облака белых плывут по лазури.
Стоит ослепительный зной.
А может, и не было вовсе разлуки,
Невечной разлуки земной?
Нет, Передреев был неправ, упорствуя в своем неприятии Игоря: "Ну что ты в нем нашел? Он же такой маленький…" Поэт, пишущий такие стихи и такие письма, конечно же, не годился для семейной жизни:
"А еще в Могилеве я понял, что в этом мире нигде и никогда не бывало обоюдной любви. Дело это личное, сугубо одностороннее и полезное только до поры. Еще одна ошибка всей мировой литературы: женщина в ней нарисована существом более тонким, нежным и беззащитным, чем мужчина. Увы, все наоборот. Они на все смотрят трезвее и жопу детям вытирают, когда мы сочиняем элегии. Но тратиться на них стоит, — дело верное, ведь мы гроши проживаем, а они вкладывают в недвижимость, которую можно опять превратить в гроши. И вообще не мы их, а они нас охмуряют, но так как мы тоньше и умнее, они предоставили нам делать это за них — охмуряться!
Читать дальше