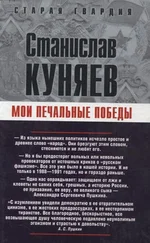Помню, как из Ессентуков, где он лечил на водах свою язву, к моему сорокалетию в Москву пришла телеграмма:
"Еще веселый и не слабый,
в семье задумчивых стихов
надежной ты достоин славы —
так бей же в сорок сороков.
Поздравляю. Целую. Игорь Шкляревский".
А за два года до этого, когда я лежал с простудой в тбилисской гостинице и безрадостно встречал свой 38-й день рождения, меня поддержало его дружеское телеграфное четверостишие:
"Поздравляю, грустно обнимаю,
потому что каждый день и час,
словно ветер золотую стаю,
в бесконечность провожают нас.
Твой Шкляра".
Он щедро в течение двух десятилетий дарил мне свои экспромты, в которых порой встречались серьезные мысли и чувства.
В нашей дружбе и волчьей и нежной
было досыта боли кромешной,
и любовь, и отвага, и риск,
но никто не сбивался на визг.
Было в горле от горечи сухо,
но достоинство светлого духа
сохранили, зубами скрипя…
Что — любовь? — уважаю тебя!
Написано, видимо, уже в середине семидесятых годов.
А вот фотография: Игорь на берегу Сожа с громадной щукой и надпись: "Любимому другу Станиславу, где мы, там и удача". Сож. Июнь 1971 г.
И еще одна. Рыбак в позе победителя, со спиннингом, с крупной семгой в подсачеке на порожистой карельской реке: "Другу лучшему мою первую семгу. Порог "Собачья пасть". Шкляра".
"Ну, конечно же, Игорька надо в афишу!" — решил я тогда, осенью 1982 года. Впрочем, сомнения были. Наши отношения из-за каких-то мелочей иногда разлаживались, но пятьдесят лет — все-таки не шутка! Нет, без него мой юбилей — не юбилей, как и без Передреева и Кожинова. Главное, чтобы он в конце ноября был в Москве.
Вечером я позвонил ему и сказал, что очень прошу в конце ноября быть в Москве и выступить на вечере. В ответ вдруг услышал нечто странное:
— Друг, давай встретимся завтра, мне надо обо всем этом поговорить с тобой серьезно.
Мы встретились на улице Воровского возле монумента Льву Николаевичу Толстому, Игорь щелкнул зажигалкой, затянулся и сделал какое-то почти физическое усилие, от которого желваки напряглись на его лице:
— Знаешь, я обдумал твое предложение. Я не буду выступать на твоем вечере. Но в трудную минуту я всегда помогу тебе. Только тайно, а не открыто.
Я изумленно поглядел ему в глаза, как бы желая удостовериться, что это — не обмолвка, хотел сказать, что двадцать лет все-таки так легко из жизни не вычеркнешь, что я всегда помогал ему открыто, а порой демонстративно, но вдруг понял, что все напрасно, повернулся и пошел к железным воротам, оставив его наедине с Толстым…
А начиналось все — именно двадцать лет тому назад — совершенно замечательно.
* * *
В 1962 году мы впервые встретились, по-моему, в журнале "Смена". Провинциальный, бедно одетый в затертую курточку и несвежую рубашку, в какой-то заячьей облезлой шапке, юноша подарил мне тоненькую безвкусно оформленную книжечку с дерзким названием "Я иду"… И надпись на титульном листе сделал размашистую и вдохновенную: "Станислав! Люблю тебя и стихи твои. Еще много хотел написать, но ты и так все поймешь. Игорь Шкляревский. 1962 г".
Свежая была книга. Утренняя. Осенняя. Чистая… Ее героями были форели и птицы, заливные луга и весенние заморозки…
Как и положено в таком возрасте, была в книге и яростная жажда самоутверждения, время от времени неожиданно отступавшая перед способностью молодого поэта впадать в созерцательное оцепенение, когда он вдруг, как нечто самое важное, замечал:
и паутину у сосны,
и одинокую сороку,
и тельце высохшей осы,
и опустевшую дорогу.
Мы понравились друг другу, договорились встретиться, когда он вернется из поездки на Дальний Восток — на Сахалин, на Южные Курилы. Подобно своему тогдашнему кумиру Артюру Рембо, решившему въехать в Париж через провинцию, Шкляревский с юношеской непосредственностью рассчитывал вернуться победителем в Москву через Охотское море. И обязательно с новой книгой, да такой, какую не в силах написать ни Евтушенко, ни Рождественский, ни Володя Цыбин. Через два-три месяца он действительно привез с окраины страны рукопись, которую позже счастливо назвал "Фортуна", с вольными, романтическими стихами, навеянными не только воспоминаниями о "Пьяном корабле" Артюра Рембо, но и жизнью на рыбацком сейнере, о смытом за его борт матросе:
Лежал я на дне океана,
окутанный длинной травой,
и мертвое солнце вставало
над мертвой моей головой.
Читать дальше