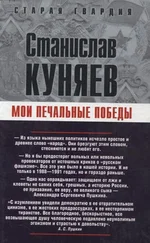А что касается размышлений Кюстина о Кремле, то как они совпадают с мыслями и чувствами на ту же тему демократического публициста Олега Мороза, опубликованными в одном из номеров "Литгазеты" за 1996 год.
"Имперская сущность государства, называемого ныне Российской Федерацией, сохранилась во всей первозданности. Должно быть, она вмурована в сами кирпичи Кремлевской стены, вмазана в Царь-колокол и Царь-пушку".
Думаю, что и Мороз жалеет о том, что Наполеон не взорвал в свое время Кремль вместе с его "имперской сущностью".
Многие великие люди прошлого века отозвались о книге Кюстина с презрением. Федор Иванович Тютчев назвал ее "доказательством умственного бесстыдства и духовного растления". Жуковский в письме к Вяземскому написал: "Если этот лицемерный болтун выдаст новое издание своего четырехтомного пасквиля …ответ ему должен быть просто печатная пощечина в ожидании пощечины материальной", Вяземский в письме к А. И. Тургеневу восклицал: "Хорош Ваш Кюстин. Эта история похожа на историю Геккерена с Дантесом". То есть полна клеветы, лжи и провокаций…
Один только Герцен, который, по словам Достоевского, "родился эмигрантом", приветствовал антирусскую эпопею. Но Герцен был человек другого склада, нежели Жуковский, Тютчев, Пушкин. Понятие чести у него было полностью разрушено. Вспомним хотя бы, что Пушкин вызвал на дуэль Дантеса, пытавшегося ухаживать за его женой, а Герцен, когда немецкий еврей — поэт Гервег — соблазнил его жену, вздыхал, плакал, переживал и чуть ли не соглашался на позорную жизнь втроем. Западники они и есть западники…
Многие годы я неторопливо разгадываю "историческую основу" лермонтовского стихотворения о родине. Конечно же, его можно понимать, как некий ключ к спорам между славянофилами, западниками и идеологами официальной государственности. Но лишь внимательно прочитав маркиза де Кюстина, я предположил, что лермонтовская "Родина", может быть, является косвенным или даже прямым откликом Михаила Юрьевича на сочинение французского литератора.
В своих чувствах к государству, к верховной власти, к официальной идеологии Лермонтов все-таки в чем-то мог понять маркиза:
Ни слава, купленная кровью,
ни полный гордого доверия покой,
ни темной старины заветные преданья
не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Не то чтобы Лермонтову был страшен и враждебен (как Кюстину) этот мир имперского и государственного величия, нет, его атрибуты просто "не шевелят" в нем "отрадного мечтанья", он холоден к ним, они не вдохновляют его. (Хотя и это не полная правда, если вспомнить "Бородино", "Спор" или даже "Валерик").
Но вот уже в чем поручик и маркиз совершенно враждебны друг другу, так это в отношении к народной жизни, к мистическим пространствам России, к ее природным стихиям, сформировавшим русскую натуру. Вот здесь у Лермонтова начинается спор с Кюстином буквально по каждому пункту. Все, что Лермонтов любит "за что не знает сам", вызывает у маркиза ужас, а порой и ненависть, порожденную этим ужасом. Лермонтов чуть ли не буквально теми же словами, что и Кюстин, рисует величие русской жизни, но одухотворяет ее одним словом "люблю", которое в коротком тексте повторяется четыре (!) раза:
Но я люблю — за что не знаю сам? —
ее степей холодное молчанье,
ее лесов безбрежных колыханье,
разливы рек ее, подобные морям…
Может быть, я пристрастен, но мне эти строки кажутся прямым ответом на ужас, испытанный Кюстином перед нашими половодьями, перед безмерностью русской жизни: "От рек веет тоской, как от неба, которое отражается в их тусклой глади. Они катят свои свинцовые воды в песчаных берегах… Зима и смерть, чудится вам, бессмысленно парят над этой страной".
В России, как считал маркиз, "нет ничего, кроме пустынных равнин, тянущихся во все стороны насколько хватает глаз. Два или три живописных пункта отделены друг от друга безграничными пустыми пространствами, причем почтовый тракт уничтожает поэзию степей, оставляя только мертвое уныние равнины без конца и без края".
Очевидно, что это впечатление путешественника, едущего на перекладных в кибитке или в карете.
Михаил Лермонтов тоже глядит на русские пустынные равнины и проселки и всматривается в них, "насколько хватает глаз"; но на той же фактуре у него рождаются совершенно противоположные чувства:
Проселочным путем люблю скакать в телеге
и, взором медленным пронзая ночи тень,
встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
дрожащие огни печальных деревень.
Читать дальше