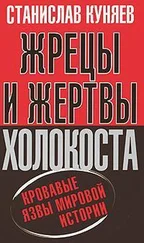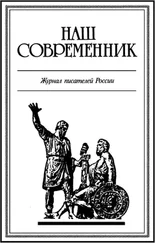Лучше всех много лет тому назад об этом замечательном стихотворении написал Вадим Кожинов:
"В чем тайна этого стихотворения? Именно в том, что перед нами не "картина", а цельное огромное переживание. Родина, народ провожают своего сына на войну. И отдельные лица уже неразличимы. Есть стихия Родины, в которой все слилось. Но если вглядеться, угадываешь и все слагаемые этой стихии: "губы мои задрожали", и "ничего б не случилось со мной, если б я невзначай разрыдался…" Сквозь это видишь идущую рядом плачущую мать и скорбное лицо отца. А вот и голос друга — гармонь, которая "Все сказала своими ладами". И девушка, ибо, конечно, именно она подарила "платок с голубою каймой". И, наконец, рожь, пшеница — то богатство, то добро и красота, в которые веками укладывались и труд и любовь односельчан, так что это как бы уже живые существа, кланяющиеся в ноги уходящему молодому хозяину.
Мальчишка — а возраст героя отчетливо выражается в этих "вдруг задрожавших губах" — прощается с Родиной, уходит в зловещий пожар войны. Что ж, может, слаб и боязлив он, если t готов невзначай разрыдаться? Герой не сияет на прощание показной белозубой улыбкой. Он по-русски откровенен и открыт и не соблюдает "форму". Но совершенно ясно: больше уже не дрогнут ни губы его, ни рука. Здесь, на пороге родного дома, он уже заранее как бы пережил и преодолел страх смерти, "попрощался сам с собою".
Ко всему сказанному мне разве что хотелось бы добавить, что все-таки такие люди рождаются в народе не для войны, а "для вдохновенья, для звуков сладких и молитв". Федор Сухов из Красного Оселка, тургеневский Касьян из Красивой (Красной!) Мечи. Даже имена их деревень родственны друг другу-
"Дорогой Станислав!
Спасибо за свет. По всей вероятности, тебе неизвестно, как давно, как пристально я слежу за твоим светом, среди моих книг есть и твои книги, даже те, которые вышли за хребтом Кавказа, в Грузии.
Когда бываю в Нижнем, проходя по набережной, гляжу на памятную дорку, которую (как мне говорили) благодаря твоим стараниям прикрепили к стене спецбольницы во славу твоих дедичей и отчичей. Да святится их имя, их дело в памяти народной!
Что касается поэтов фронтового поколения, мне думается, у поэтов нет возраста, поэт всегда во времени, нельзя, например, назвать Есенина поэтом первой мировой войны или революционной, как и дореволюционной эпохи, то же самое можно сказать про Пастернака, поэтому у меня с тобой много может быть общего, несмотря на разницу в летах. (В этом выразилось несогласие с тем, что я, послав ему книгу своих стихов, называл его в дарственной надписи поэтом фронтового поколения. — Ст. К.). Впрочем, ладно, я плохой теоретик, мне хочется только одного: ухватить за пятку уходящий день, запечатлеть его в каких-то словах, звуках. На большее я не рассчитываю. Вот сколько лет я хожу-брожу по местам своего появления на свет, казалось бы, все известно, все знакомо, но вчера я узрел такое местечко, которое меня убило своей красотой, своей необычностью. Ах, как хорошо, что я еще могу что-то зреть, что-то видеть.
Знаешь, изо всех стихов Твардовского мне больше всего по душе, по нутру одно стихотворение, никем не замеченное.
Как после мартовских метелей.
Свежи, прозрачны и легки,
В апреле —
Вдруг порозовели
По-вербному березняки.
Весенним заморозком чутким
Подсушен и взбодрен лесок,
Еще одни, вторые сутки,
И под корой проснется сок.
И зимний пень березовый
Нальется пеной розовой.
Кланяюсь тебе нашей приволжской вербой, ее умиленной слезой.
Федор Сухов.
24 марта 1983 г.,
с. Красный Оселок".
Письмо было неожиданно личным, сердечным, доверительным, "неожиданно" потому, что до сего времени мы с Федором Григорьевичем Суховым случайно раз, другой встречались то ли в Доме литераторов, то ли в Доме творчества и ни о чем всерьез поговорить не успели. А тут такие слова, как будто мы давно знакомы, и даже засохшая веточка вербы приколота к письму, как прямое свидетельство того, что письмо написано в конце марта, и как живое дополнение к чудному стихотворению Твардовского.
С той поры и началась наша переписка, закончившаяся только после смерти Федора Сухова. Следующее письмо было как бы благодарностью его за то, что я написал в издательство "Современник" рецензию, в которой настаивал на скорейшем издании его книги.
"Дорогой Станислав!
Читать дальше