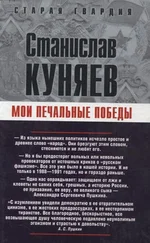…Золотистый чай заваривается в котелке. Ореховые ветви уже прогорели. Я разгребаю угли ровным слоем, кладу по обе стороны кострища два ряда камней, на них — параллельно друг другу несколько сырых веток и на ветки осторожно укладываю одна к другой четыре крупных форели, натертых солью. Через две минуты они начинают томиться, дергаться от жара, как живые, их спинки снизу покрываются коричневой корочкой, я переворачиваю рыбу, сок с нее каплет на угли, и аромат благоуханных испарений щекочет наши ноздри.
Я обрываю с ореха несколько крупных листьев, кладу на них огурцы, помидоры, хлеб — и на два подогретых листа отдельно — царскую рыбу, испеченную в собственном соку. — Обед готов, начальник!
Портнягин ест с жадностью, чмокая и постанывая от удовольствия. А я смакую форель не торопясь, чтобы не испортить себе впечатление от рыбалки; вспоминаю, как я подсек ее, как она рванула леску, соблюдаю достоинство добытчика и веду себя как гвардеец Александра Македонского. Словом, роли наши — поменялись.
А потом по кружке золотого чая! Да по сигарете! И развалиться на мягкой траве, разбросать по траве руки и ноги, бессмысленно глядя в бездонное небо. Так и заснули мы на земле. Я — в рваной красной футболке, Эрнст в линялой выношенной штормовке, оба в заплатанных джинсах, босые, счастливые, и проснулись на вечерней прохладе. Заходящее солнце уже очертило длинные синие тени от нашего ореха. Костер догорел. Угли покрылись серым пеплом, и только еле заметная струйка дыма уходила в потемневшее небо…
Но почему во всех моих стихотворениях, где хоть как-то присутствует его образ, закладывалась мысль о смерти или предчувствие ее?
…Расстаемся с ним у истоков Ягноба: часть партии отправляется к югу, мы с Валентином Павловым на лошадях к северу. Склонясь над топографической основой, уточняем место, где встретимся через несколько дней — в устье Каниза…
Помню, что я начал писать это стихотворенье в седле, когда ехал к устью по долине, заросшей сочными травами, в которых бродили табуны необъезженных трехлеток. Справа и слева, постепенно уходя к небу и тая в рассеянной утренней дымке, виднелись горные складки. Стихи сами собой слагались под мерный шаг лошади, под ее шумное дыханье, под скрип седла:
Где встретимся? В устье Каниза.
Там, в матовом свете луны,
Склоняясь над травами низко,
Разгуливают табуны.
…………………………….
Где встретимся? Слушай, не много ль
Таких расставаний и встреч?
Смотри, как потупился тополь,
Услышав столь дерзкую речь!
Еще бы! Есть высшие цели
И планы на этой земле.
Сегодня на водоразделе,
А завтра на смертной постели,
В наполненной звездами мгле.
Он жил так широко — так безжалостно и щедро раздавая себя друзьям, работе, женщинам, науке, поэзии, что тревожно становилось на душе, глядя на эту щедрость. Словно бы человек чувствовал, что недолго жить ему на этом свете, что не много у него времени, как у того розового стебля, пробившего от нетерпения снег, чтобы успеть за короткое высокогорное лето совершить все, что предназначено природой… Да еще и цыганка однажды в поезде, когда он ехал к себе, на родину своих прадедов в Зауралье, в холодном ночном тамбуре, куда он вышел покурить, нагадала, что проживет он сорок лет. У Заболоцкого сказано: "ведь каждое сердце предчувствует час, когда оно канет на дно"… Предчувствия, исходящие от него, становились как бы и моими прозреньями:
Мой друг! Под проливным дождем,
Под синим азиатским зноем,
Мы начинаем наш подъем,
Необходимый нам обоим.
От временных привалов дым
Летит и в поднебесье тает
И над твоим виском седым
Как венчик голубой витает.
Послушай, в мире высоты
Немного проку исподлобья
Глядеть, как будто ищешь ты
Хороший камень для надгробья…
Стихи написаны после маршрута, когда мы, опьянев от высоты, от дыханья вечных снегов, от ощущения силы и вольности, вдруг начали, весело кощунствуя, выбирать себе среди глыб красного гранита, белого мрамора и черного базальта надгробные камни.
Он всегда тревожился за меня, когда я уходил в маршруты без него, или когда отправлялся вдоль рек и распадков за форелью, или на охоту за куропатками. Я иногда не рассчитывал время и возвращался в темноте. Хорошо еще, если луна, повиснув на краю черной скалы, озаряла мою тропу, а вдали, отражая ее мертвый свет, сияла призрачная гряда снеговых вершин Гиссара. Не раз, возвращаясь в лагерь, я по огоньку сигареты угадывал: Эрнст вышел на тропу — встречает своего неопытного друга.
Читать дальше