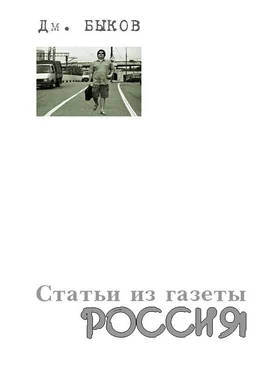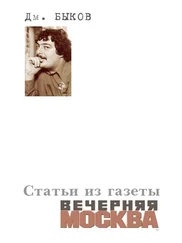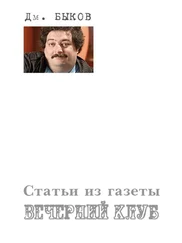Особая история — Комаровский Олега Янковского. У Прошкина все отработали на высшем уровне, и этот большой артист тоже сыграл так, как в лучшие свои годы. Правда, с Комаровским, каков он у Пастернака, этот седой волк не имеет почти ничего общего: скорее уж с Мелетинским, с прототипом адвоката-растлителя, кузеном Зины Еремеевой, будущей Нейгауз-Пастернак. Жена пеняла Пастернаку — он сделал ее первого любовника пошляком и мерзавцем, ловчилой, тогда как реальный Мелетинский был человеком не без таланта и вкуса, и беззаконная страсть была для него не интрижкой, а трагедией. Лара у Прошкина не зря любит Комаровского — такого полюбишь; правда, без откровенных сцен можно бы обойтись — сыграны они, прямо скажем, без энтузиазма, на голом профессионализме и не без ходульности. Для Пастернака Комаровский в романе — на десятом месте, пошляки не стоят нашего внимания, не в них дело; он — лишь воплощение той силы, которая вечно отнимает у доктора его идеальную возлюбленную. У Арабова главная коллизия — именно противостояние умного, циничного хищника-политикана и стоического интеллигента, и это, безусловно, тоже примета нашего времени. Не зря Комаровский сделан депутатом Государственной думы, поигрывающим в революционную активность, — разумеется, с целью наловить рыбки в мутной воде.
Что касается Лары — Чулпан Хаматова не принадлежит к числу моих любимых актрис, во всех своих ролях она более или менее одинакова, но у Прошкина и она на месте. Конечно, это не пастернаковская Лара, больше похожая на Марию Шукшину; она младше, порывистее, в ней есть налет дешевого провинциального демонизма — особенно в первых двух сериях, когда она балансирует на грани пошлости. Тем не менее и это работает на замысел: ведь Лара у Пастернака — образ России, которая вечно достается то деляге, то фанатику-революционеру и лишь на краткий переломный миг — художнику, который один любит ее по-настоящему. Лара, описанная Пастернаком, — Россия двадцатого столетия с ее поразительной способностью ликвидировать хаос на бытовом уровне и создать его на глобальном. Это сочетание хозяйственности с бардаком, домовитости с разрухой — очень русское: Лара рушит жизнь всех, кто с ней пересекается, но из любых руин может создать уют. Это мощный и точный образ России — тогдашней. Но Россия нынешняя — пожалуй, скорее такова, как Хаматова в этой роли. Именно недалекая, примитивная, упростившаяся за последние двадцать лет до почти девчачьей наивности, но при этом и мужественная, и отличающая добро от зла, хотя и невыносимая временами.
Разумеется, Арабову пришлось пойти на серьезные отступления от пастернаковского текста. Некоторые жертвы представляются мне не вполне оправданными: Дудоров и Гордон — чрезвычайно важная пара, Розенкранц и Гильденстерн при Гамлете, воплощения двух общих мыслей — условно говоря, семитской и русской, либеральной и русопятской; и то, и другое казалось Пастернаку бьющим мимо цели и опять-таки весьма пошлым, и то, что говорит Живаго о еврействе и славянофильстве, о любой национальной ограниченности, — важно и символично. Еще важнее линия Дудорова и Христи Орлецовой, о которых предполагалось написать драму «Этот свет»: именно эволюция славянофильства в советский патриотизм военных лет представлялась Пастернаку важным и ободряющим сюжетом — об эволюции либеральной идеи в апологию торгашества и распада он, увы, не догадывался. Или догадывался, написав «Уходит с Запада душа — ей нечего там делать», но это отдельная тема, в «Докторе» никак не отыгранная. Иное дело, что Дудоров и Гордон — представители тех самых «мальчиков и девочек», о которых писал Блок, которых любил Пастернак, и два главных соблазна, предстоявших пастернаковскому поколению, составляют в романе весьма существенную линию. Они по-новому высвечивают и доктора, описанного у Пастернака во многом апофатически, от противного: он не тот, не другой и не третий. Соглашусь, что Дудоров утяжелил бы картину, но он и прояснил бы ее; жаль, если Арабов не видит современных Дудоровых — среди патриотов тоже попадаются искренние и это тоже не спасает их от пошлости. Роман Пастернака ведь еще и о том, как ложные дискурсы и навязанные противостояния превращают приличных людей в заложников ситуации. Чтобы понять всю степень свободы Живаго, стоило бы показать тех, кто соблазнился разными видами и формами несвободы. То, что из фильма вылетел Евграф, — тоже существенное упущение. Но поди экранизируй символистский роман! Тем, кто будет ругать картину, я предложил бы эксперимента ради снять кино по «Петербургу» или «Навьим чарам» и посмотрел бы, что из этого выйдет. «Доктора» нельзя рассматривать как реалистическое сочинение, он бесконечно далек от русской реалистической традиции и восходит к сказке. А перенос сказки на экран — дело почти безнадежное. Без жертв не обходится.
Читать дальше