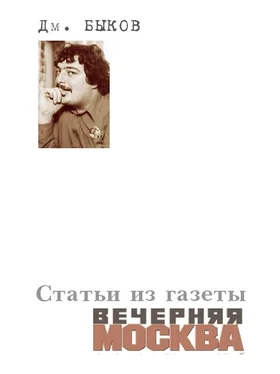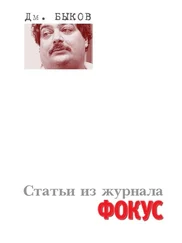— Вы вообще как-то не задержались ни в одном кружке — из «Нашего современника» ушли, с «патриотами» рассорились, демократам от вас тоже достается…
— И им от меня, и мне от всех. Кружок «Современника» был очень разный, и главная ошибка коммунистов — хотя, какая это ошибка, это грех смертный — как раз в попытке соединить патриотизм с коммунизмом. И Бога припрячь. В «Нашем современнике» печатался огромный писатель Распутин, человек нежнейшей души и прозаик первостатейный, в поздней своей прозе достигший совершенно новых высот. Взять «Избу» или «Нежданно-негаданно». Там печатался Носов. Печатали мы Константина Воробьева, безвременно ушедшего прозаика, который волей судьбы оказался в Прибалтике и так и не смог переехать в Россию — именно потому, что не хотел брать никакой помощи от тогдашних писательских генералов. Воробьевская повесть «Убиты под Москвой», кстати, тоже из лучшего о войне. Интересно нас знакомили: кто-то мне подсунул повесть Евгения Воробьева (Воробьевых ведь, как Смирновых, в русской литературе достаточно). Я прочел это дикое вранье и, не взглянув толком на инициал, отправил Воробьеву в Прибалтику разгромное письмо. После чего получил очень дружелюбный ответ: мол, здорово ты его костеришь… Так мы и сдружились: он был человек веселый, огромный мужчина, кремлевский курсант и умел обо всем как-то смешно рассказывать. Хотя ужасов навидался — не приведи бог никому, и в плену был, но сроду не пожаловался ни на что. И умер едва за пятьдесят, не закончив лучшую вещь свою — «И всему роду твоему».
А рядом с этими настоящими писателями были озлобленные и лживые, сдававшие своих и клеветавшие на них. Иногда это были люди не без искры таланта, как Василий Белов, но талант этот в них был задавлен комплексами и злобой. И того же Белова, в юности работавшего в обкоме комсомола, мне легко представить себе среди тех, кого он так грозно проклинает сегодня, — среди коллективизаторов с наганами. Впрочем, тут еще одна драма — драма малого роста. Это для мужчины серьезное испытание, взять хоть Ленина.
— А вы к Ленину без уважения относитесь, как я заметил?
— Да ну его совсем, с уважением относиться… Я еще в семидесятые годы, когда приезжал на родину, в Овсянку (сам жил в Вологде до восьмидесятого), был однажды с женой в Шушенском.
Это по нашим меркам недалеко отсюда. Громко, никого не стесняясь, сказал, что не отказался бы и сейчас пожить в тех условиях, в каких тут жил и творил этот ссыльный… Правда, есть такой убойный якобы аргумент: может, только его методами и можно в России что-то насадить? Чего-то добиться? Я в ответ всегда предлагаю вспомнить, что он насадил и чего добился. Нормальную жизнь насаждать не надо — она сама пробивается вопреки всему. И когда мне говорят, что мы народ самый жестокий и самоистребительный, я всегда говорю на это, что нет более живучего народа. Не представляю другой страны, которой такой век не перебил бы хребет. А нам не перебили — потому что людей, чующих фальшь и не способных на преступление, здесь пока не меньше половины. Будет меньше — считай, конец.
— Меня когда-то поразил эпиграф в «Пастухе и пастушке» — мрачная, кровавая военная вещь, у вас вообще материал не самый благоуханный, как правило… и на тебе — Теофиль Готье.
— Дима, я читал много книжек. Мне эти стихи Готье показались идеально выражающими суть книжки. Двухтомник его я тогда часто перечитывал. Я и теперь читаю много, хотя одним глазом почти не вижу. Что мне еще делать? Рыбачил раньше, а теперь какая тут рыбалка, все потаскали… Читаю, когда не могу писать, а писать я теперь могу далеко не так, как прежде, — за весь прошлый год написал столько, что за два часа прочтешь. «Затеси», наброски к третьей книге «Прокляты и убиты»…
— Она будет?
— Будет обязательно, хотя я военными повестями — «Обертоном», «Веселым солдатом» — как будто часть своего долга выплатил. Но хотя бы главы из третьей книги напишу обязательно — я далеко не все сказал, что должен был. Война меня засасывает, я не успею начать, как тут же все само ползет из памяти. Обычно-то я не помню, забыл, заросло. А тут — хлещет. Но на лето, когда в Овсянку уеду, у меня планы другие.
Буду заканчивать повесть о собаке нашей — «Приключения Спирьки». Хочу детскую вещь написать, сколько можно о страшном да о страшном…
— Скажите… В «Веселом солдате» все правда?
— Все. Чистая автобиография.
— И немца того вы убили?
Читать дальше