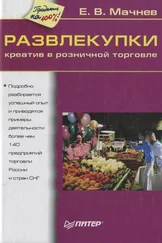Array Array - Утраченная Япония
Здесь есть возможность читать онлайн «Array Array - Утраченная Япония» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Публицистика, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Утраченная Япония
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Утраченная Япония: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Утраченная Япония»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Утраченная Япония — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Утраченная Япония», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Иллюзия в кабуки достигает высот благодаря, пожалуй, самой замечательной в мире технике инсценизации. Лучшим примером является hanamichi (дорога цветов), которая ведет через зрительный зал. Актеры поднимаются на сцену и спускаются с нее именно этим путем: отделенный от действия на главной сцене, актер входит на ханамичи там, где имеет возможность показать всю глубину играемого персонажа. Примером может послужить пьесса Kumagai Jinya (Военный лагерь Кумагаи), традиционная повесть, основанная на мотиве giri – ninjo (то есть конфликте между любовью и обязанностью): Кумагаи должен убить собственного сына, и принести его голову вместо головы сына своего хозяина. Хитрость удается, но в наказание Кумагаи срезает волосы, чтобы начать жизнь отшельника, и уходит со сцены, идя по ханамити. Когда Кумагаи играл Кандзабуроо XVIII, то, выходя на ханамити, он дал зрителям почувствовать такое глубокое отчаяние, что Kumagai Jinya казался не столько историей о гири-ниндзё, сколько антивоенным представлением.
Актерское искусство кабуки временами кажется символом самой жизни. Например, danmari, то есть сцены пантомимы, во время которых к зрителям выходят все главные персонажи в одно и то же время, в полной тишине. Словно находясь в полной темноте, они двигаются в замедленном темпе, не осознавая существования других; они сталкиваются друг с другом, роняют реквизит, который поднимают другие герои. Сценам данмари сопутствует атмосфера нереальности, которая не относится к какому-то конкретному сюжету. Смотря данмари, где мужчина поднимает письмо, которое уронила его любовница, либо двое ищущих друг друга людей проходят мимо, не замечая друг друга, мы осознаем случайность человеческого существования. То, что выглядит, как еще один эксцентричный прием кабуки, символизирует глубокую правду.
Как получилось, что актерское искусство в Японии достигло такого высокого уровня? Понимая, что это упрощение, я бы сказал, что это произошло потому, что в Японии внешнее часто более ценится, чем внутреннее. Можно найти множество негативных последствий этого в жизни современной Японии. Например, фрукты и овощи в японском супермаркете идеальны с точки зрения цвета и формы, они словно бы сделаны из воска – но при этом совершенно безвкусны. Насколько важно то, что внешнее, можно убедиться на примере конфликта между tatemae (официально выраженным мнением) и honne (истинным намерением), который является одной из главных тем книжек о Японии. Если послушать дебаты в японском парламенте, то становится очевидным, что татэмаэ берет верх над хоннэ. Тем не менее, этот акцент на том, что поверхностно, имеет и свои позитивные стороны – несравненное мастерство актеров кабуки является непосредственным примером привязывания внимания к внешнему.
Искусство кабуки научило меня многим вещам, но более всего увлекло артистическое умение поймать и проявить эмоцию в один преходящий миг. Очень выразительным примером этого является «миэ», когда актер принимает экспрессивную позу, грозно морща брови и вытягивая руки. Но тоже самое можно сказать о многих других ката кабуки. Возьмем, например, сцену, в которой два человека свободно разговаривают друг с другом; какой-то нюанс разговора позволяет им неожиданно понять свои истинные чувства. В этот момент действие останавливается, актеры замирают, и с левой стороны сцены деревянные колотушки издают звук «battari!». Персонажи продолжают разговор, как ни в чем не бывало, однако это «баттари!» изменило все. Большинство театральных форм пытаются сохранить постоянство повествования, тем временем кабуки концентрируется на ключевых моментах, пойманных в своеобразных стоп-кадрах.
То же самое можно сказать о том, как зрители театра кабуки выражают свое восхищение. На Западе, в театре или на концерте, публика вежливо ждет до конца представления, и лишь тогда аплодирует браво; нет ничего худшего, чем аплодисменты между частями музыкального произведения. В кабуки же зрители показывают свое удовольствие, выкрикивая yago актера (его сценическое родовое имя). Когда представление заканчивается, все встают, и выходят.
Выкрикивание яго – это само по себе искусство. Кричат его только в определенные минуты драматического напряжения, а не когда захочется. Любителя в зале можно распознать по крикам не к месту. Есть даже группа старых ценителей, называемых omuko (дословно – мужчины сзади), которые добились мастерства в этой области; они садятся на самом верху, там, где сидел я во время моего первого kaomise, и оттуда кричат яго, такие, как «Yamatoya!» для Тамасабуроо, или «Nakamuraya!» для Канзабуроо. Иногда они меняют свой репертуар, и выкрикивают «Godaime!» (пятое поколение!), «Goryoonin!» (пара из вас!) или «Mattemashita!» (я это ждал!). Я помню представление, в котором легендарный оннагата Утаэмон, тогда уже семидесятилетний, играл великую куртизанку Яцунаси. В кульминационный момент, когда Яцунаси оборачивается к идущему за ней крестьянину, и одаривает его улыбкой, которая разрушит всю его жизнь, раздался крик омуко «Hyakuman doru!» (миллион долларов!).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Утраченная Япония»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Утраченная Япония» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Утраченная Япония» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.