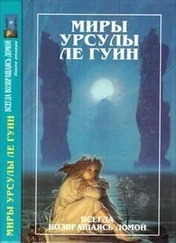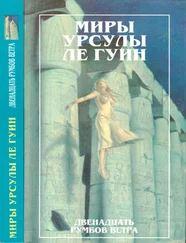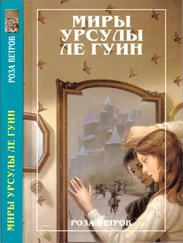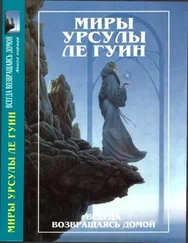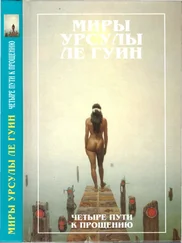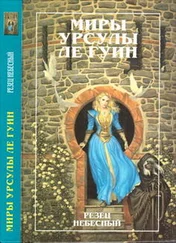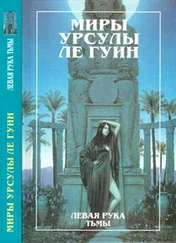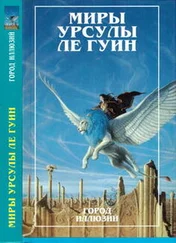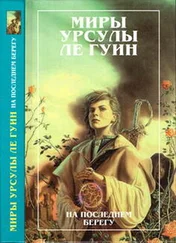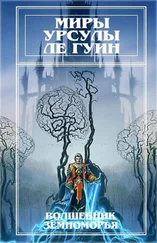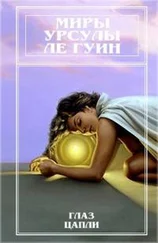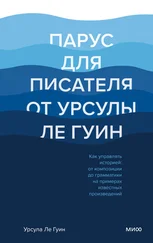Это действительно сложно, поскольку обе фигуры и без того двоятся. Сэм отчасти представляет собой тень Фродо, нижестоящую часть его личности. В Голлуме также живут двое — в более прямом, шизофреническом смысле; он всё время разговаривает сам с собой, Ползучка разговаривает с Вонючкой, как называет это Сэм. Сэм прекрасно понимает Голлума, хотя никогда не сознается в том и никогда не признает Голлума, как признаёт его Фродо, позволивший Голлуму стать их проводником, доверившийся ему. Фродо и Голлум оба хоббиты, но это ещё не всё; они — одна и та же личность, и Фродо это знает. Фродо и Сэм — светлая сторона, Смеагол-Голлум — теневая. В финале Сэм и Смеагол, менее значимые фигуры, исчезают, и к концу долгих исканий остаются только Фродо и Голлум. И это Фродо, хороший, подводит, в последний момент пожелав сам заполучить Кольцо Всевластья; и это Голлум, плохой, доводит поиск до успешного конца, уничтожая Кольцо и себя вместе с ним. Кольцо — архетип, воплощающий Соединительную Силу, созидание-разрушение, — возвращается в жерло вулкана, извечный исток созидания и разрушения, изначальный огонь.
Взглянув на историю под таким углом, можно ли назвать её простой? Думаю, что да. «Царь Эдип» тоже достаточно простая история. Но она не упрощённая. Историю такого рода способен поведать лишь тот, кто обернулся, и встал лицом к лицу со своей тенью, и взглянул во тьму.
То, что изложена она языком фэнтэзи, объясняется не случайностью, и не тем, что Толкиен — эскапист, и не тем, что он писал для детей. Это фэнтэзи, затем, что фэнтэзи — естественный подходящий язык для рассказа о духовном путешествии и о борьбе добра и зла в душе.
Всё это уже было сказано — прежде всего, самим Толкиеном, — но требует повторения. Требует многократного повторения, ибо и сейчас, в этой стране, существует глубокое пуританское недоверие к фэнтэзи, которое нередко проявляется у людей, искренне и серьёзно озабоченных нравственным воспитанием детей. Фэнтэзи для них означает эскапизм. Они не видят никакой разницы между Бэтмэном или Суперменом — товаром с фабрики дурмана — и вечными архетипами коллективного бессознательного. Фантазию, которая в психологическом смысле есть универсальная и ценная способность человеческого мышления, они путают с инфантилизмом и патологической регрессией. Тени, похоже, представляются им чем-то легко устраняемым при помощи достаточного числа электрических лампочек. А увидев иррациональность, и жестокость, и странную аморальность сказки, они говорят: «Но ведь это же страшно вредно для детей; мы должны учить их, что хорошо, а что плохо — при посредстве реалистической литературы, книг, правдиво изображающих жизнь!»
Я согласна, что детей надо — и обычно они этого очень хотят — учить отличать хорошее от плохого. Но думаю, что детская реалистическая литература — одно из наименее подходящих для этого средств. Трудно не впасть в поверхностные рассуждения коллективного сознательного, в примитивный морализм, во всевозможное проецирование, так что опять докатываешься до сплошных негодяев и героев. Или заводишь старую песню о том, что «есть немножко плохого в самых лучших из нас и немножко хорошего в самых плохих», опаснейшим образом сводя к банальности тот факт, что невероятный потенциал добра и зла заложен в каждом из нас. Или авторы приучаются просто спекулировать на потрясениях и расстраивают ребенка-читателя, сами не будучи по-настоящему задеты жестокостью истории, что постыдно. Или появляются «проблемные книги». Проблема наркотиков, разводов, расовых предубеждений, внебрачной беременности, и так далее — точно зло есть проблема, то есть нечто, могущее быть решённым, имеющее ответ, как задачка из учебника арифметики для пятого класса. Если хочешь получить ответ, просто загляни в конец книжки.
Вот это настоящий эскапизм, — когда зло представляют как «проблему», а не как то, что оно есть: боль, и страдания, и бессмысленные потери, и утраты, и несправедливость, с которыми нам всю жизнь приходится встречаться, вставать лицом к лицу, и вновь и вновь справляться, признавая их, живя с ними, чтобы жить истинной человеческой жизнью.
Но, в таком случае, как быть автору натуралистических книг для детей? Может ли он представить ребёнку зло как неразрешимую проблему — как нечто, с чем ни ребенок, ни взрослые вообще ничего не в силах поделать? Показать ребёнку картины газовых камер в Дахау, или голода в Индии, или зверств психопата-родителя, и сказать: «Вот, детка, всё так и есть, что тут поделаешь?» — это, безусловно, неэтично. Намекнув, что существует «решение» этих чудовищных фактов, вы солжёте ребенку. Настаивая, что решения нет, вы взвалите на него бремя, пока ещё для него совершенно непосильное.
Читать дальше