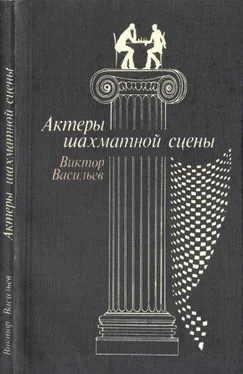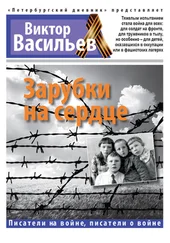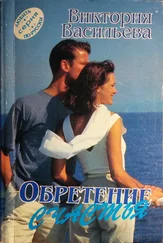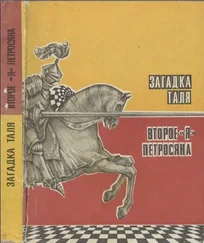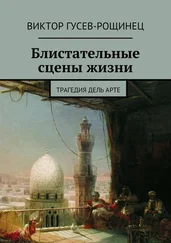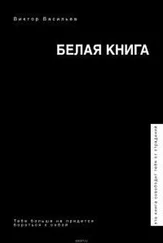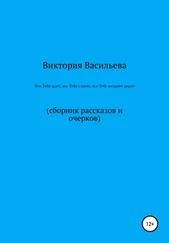Это Таль-то не умел распознавать противников? Умел уже в молодые годы, и еще как! Но чего он действительно не умел и чему так и не смог научиться – это приспособляться к чужому стилю. Спасский умел приспособляться, Таль – приспособлять! Пока, конечно, позволяли силы…
Истина состоит, по-видимому, в том, что Таль без своего коронного атакующего удара, несмотря на все новые достоинства, так обстоятельно перечисленные Полугаевским, – это, несомненно, представитель шахматной элиты, гроссмейстер экстракласса, но не претендент на корону чемпиона. Катастрофический проигрыш Полугаевскому показал, что не ирония судьбы, а некая закономерность была в том, что Таль на протяжении 11 лет не появлялся на претендентской орбите.
В книге «Когда оживают фигуры» Таль говорит:
«Оглядываясь назад, прихожу к выводу, что турнир в Монреале был самым интересным за последние годы. И говорю это вовсе не потому, что вместе с Карповым занял верхнюю строку таблицы. Просто давно не играл в столь сильном турнире, где не надо никуда отбираться! А если так, то можно сражаться раскованно, без оглядки на результат».
Играть раскованно, без оглядки Таль мог теперь уже только в обычных, не в отборочных состязаниях. Отбор – это значит, имея в виду стиль прежнего Таля, надо исполнять сложнейшие трюки на проволоке без страховки. Этого нервы зрелого Таля уже не выдерживали…
Можно ли укорять нашего героя в вероотступничестве? Можно ли осуждать его за то, что он привел свой подход к шахматной борьбе в соответствие со своими спортивными возможностями?
У него не было иного выхода. А в душе, несмотря на то, что жизнь научила Таля охотно идти на длительное позиционное маневрирование, кропотливо, изобретательно защищаться, действовать в духе позиции – словом, сделала его респектабельным солидным гроссмейстером, в душе он остался прежним, но уже затаенным еретиком, для которого логика борьбы все-таки оставалась выше логики позиции.
В 1975 году, то есть спустя два года после своих пяти триумфальных турнирных побед, не омраченных ни одним проигрышем, Таль в физико-математическом журнале «Квант» сделал прелюбопытнейшее признание:
«Для одних шахматная красота – триумф логики. Прекрасная партия, по их мнению, – это великолепное классическое здание с безупречными пропорциями, в котором каждый элемент, каждый кирпичик стоит на своем месте. И хотя мне тоже часто «приходилось» выигрывать чисто позиционные партии, меня больше влечет триумф алогичности, иррациональности, абсурда: на доске ведется яростная борьба, подчиненная какой-то идее, борьба за то, чтобы осуществить некий план, а исход борьбы решает невинная пешечка, которая не имеет ничего общего с главным мотивом драмы. Выражаясь математическим языком, мне больше нравится, когда в шахматах катет оказывается длиннее гипотенузы». (Вспомним: дважды два – пять!)
Помимо всего прочего, мы не можем укорять Таля еще и потому, что сильнейшие шахматисты нашего времени «освоили» ведь не только его как уникальную творческую личность, но и его подход к борьбе, его способы достижения победы, его бездонную веру в неисчерпаемые атакующие возможности шахмат. Борясь с соперниками, Талю приходилось теперь бороться и против себя.
Приведя слова Таля: «Многие жертвы вообще не нуждаются в конкретном расчете. Достаточно взгляда на возникающую позицию, чтобы убедиться в том, что жертва правильна», Панов писал: «Под этими словами охотно подписались бы и Чигорин и Алехин».
Не побоюсь высказать уверенность в том, что под этими словами охотно подписались бы многие современные гроссмейстеры и мастера.
Поверим Ботвиннику
Говоря о влиянии Таля на развитие современных шахмат, вспомним, что он ворвался в шахматный мир в разгар тяжелой многолетней борьбы между двумя великими представителями классического стиля – Михаилом Ботвинником и Василием Смысловым. Это была эра шахматного классицизма – мудрая, величественная, строгая, рациональная, уверенная в своей непогрешимости. Таль непочтительным ветром ворвался в храм шахматного искусства и пронесся по его тихим залам, озорно хлопая дверьми.
Бунтарская игра Таля с его интуитивной верой в то, что почти любая позиция таит в себе не исчерпанные ресурсы борьбы, его умение резко повышать атакующий потенциал фигур и пешек, его бесстрашие, всегдашняя готовность в погоне за инициативой пойти на риск, даже ценой ухудшения позиции – все это если и не нарушало основные законы шахматной борьбы, то, во всяком случае, допускало более свободное, вольное их толкование.
Читать дальше