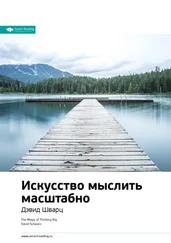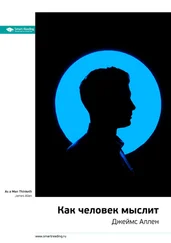Я всегда предупреждал в Духовной академии, что приеду с Леоновым, и нам устраивали шикарный прием, потому что я часто там бывал — к тому времени, повторяю, я уже серьезно работал над темой иконописи, иконопочитания, занимался проблемами богословия, коротко сошелся не только с ректором Духовной академии, но и с его помощниками, ко мне хорошо относились не потому, что я такой замечательный человек, а потому, что ни один нормальный советский ученый к ним не ездил, боясь за свою репутацию. А я был неким выродком, который ездит и не боится — во-первых, потому, что не работает в идеологической сфере, а во-вторых, мне уже пришлось хлебнуть разных разностей и побывать за решеткой — страха я не испытывал. Тем более, что нашим ракетчикам было решительно все равно, езжу я в Лавру или нет, главное, чтобы ракеты взлетали. Поэтому и получалось, что я — неподотчетный субъект, которому ни перед кем не надо «тянуться», не член Союза писателей, для которого подобная поездка могла означать гибель карьеры. Поэтому Леонов и ездил со мной как бы случайно: академик, мол, ехал и меня захватил. Все это сейчас звучит смешно, но так было на самом деле.
Обитатели Лавры были польщены тем, что их посещает известный писатель, — меня-то они мало принимали во внимание, просто знали: вот, появляется у них какой-то чудак, имеет отношение к ракетам... Это ведь Церкви не столь уж интересно, а вот знаменитый писатель!.. Леонова встречали с почетом, кормили нас вкуснейшими обедами, потом мы часами сидели в кабинете ректора Духовной академии, ходили по церковному музею, посещали ректорские апартаменты в частной квартире ректора, прямо из музея, даже на улицу не надо было выходить.
Ректором тогда был Александр, до него — Филарет, потом еще кто-то. Я там подвизался много лет, и за время моего пребывания ректоры академии менялись не потому, что плохо работали, а, наоборот, их повышали за хорошую работу. Ректор Духовной академии обычно бывал архимандритом, то есть в высоком чине, но не в епископском. Не «генералом», если выразиться более понятным нам языком, а полковничьего звания, скажем так. И когда он созревал для получения генеральского звания, ему приходилось оставлять академию и получать епархию, потому что, лишь работая в епархии, он удостоивался епископского чина. Александра отправили куда-то на юг, и я его потерял из виду. А Филарет из ректоров академии стал сейчас митрополитом Белорусским.
Служил среди них и очень, я бы сказал, практичный клирик — не помню, был ли он ректором или кем-то в ректорате, — так он, чтобы занять высокое положение, согласился стать епископом в Южной Америке, в русских приходах. Климат оказался для него губительным, нездоровое сердце дало себя знать, и уже через год он оказался епископом в России, правда не в центральной губернии, а где-то в удалении.
Так что всякие движения и передвижения в Духовной академии происходили на моих глазах, я в них косвенно участвовал как свидетель. Таким свидетелем невольно стал в ряде случаев и Леонид Леонов, «нечаянный» мой попутчик, который всегда мог сослаться на академика Раушенбаха: поехал, мол, с ним, и невзначай завернули в Лавру...
Леонова интересовала не только внутренняя жизнь Церкви, как интересует она всякого православного человека, его все интересовало как материал для творчества, он хотел наблюдать эту жизнь, видеть ее, говорить о ней. Возможно, он получал какие-то полезные советы, потому что задавал, помню, епископу вопросы: «А может ли быть так вот и так?» — и епископ укорял его: «Ну что вы, нельзя, потому что это обусловлено тем-то и тем-то».
Леонида Максимовича тяготила его церковная безграмотность, он не хотел, чтобы в романе (в той же «Пирамиде») была написана богословская или церковная чушь. Чтобы какой-нибудь священник, читая, сказал: «Да что он, с ума сошел, что ли? Разве такое может быть!» Писатель этого опасался, он недостаточно знал жизнь Церкви изнутри, чтобы самому доходить до всех тонкостей, часть этих тонкостей он узнавал от меня, звоня по телефону и расспрашивая об устройстве мироздания и о церковных правилах. Ну, и кроме того, еще больше он получал от прямого контакта с Церковью. Не просто с рядовыми священниками, а с профессорами Духовной академии. Самый высокий уровень. Но тем не менее постоянно упрекал меня, что я редко звоню и редко у него бываю.
Тогда я был очень плотно занят своей работой, и мне было, честно говоря, не до визитов. А сейчас я жалею, потому что очень много интересного пропустил, не узнал от него. Помню, например, фразу из его романа «Скутаревский», которая меня зацепила, там один брат говорит другому, что наука открывает только то, что душа уже знает. Очень тонкое наблюдение, и хотелось бы с ним об этом подробно потолковать, но... И еще, помню, меня поразило его умозаключение о том, что у каждого человека есть как бы две биографии: одна, которой он живет, — его должность, семья, дача, машина, квартира, карьера; другая — его ненаписанная биография. И такие ненаписанные биографии есть у всех. Как я понимаю, те, которые человек проживает внутри себя, в воображении, но не может прожить в реальности по ряду обстоятельств. Мне это очень понравилось. И конечно, если бы не моя немыслимая загруженность по работе, я общался бы с ним чаще, а так — я жил на окраине Москвы, он в центре, у Никитских ворот, а дача у него была в Переделкине. То есть нужно было долго и далеко добираться, особенно обратно. У меня же времени всегда катастрофически не хватало, и при всем желании чаще с ним видеться у нас получалось вынужденно редкое общение. Хотя Леонид Максимович явно стремился к общению.
Читать дальше