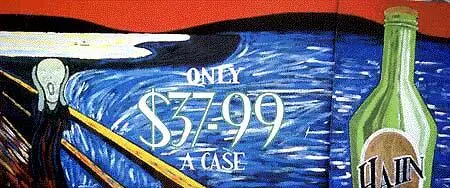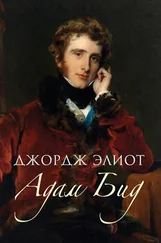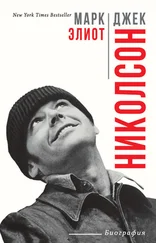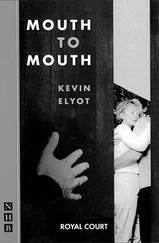Более сложное объяснение этого проявления полупереваренных телесных отходов заключается в том, что с тех самых пор, как молодежь начала отталкивать от себя общество взрослых вскоре после Второй Мировой войны и превратилась в обособленную, однако параллельную культуру, она стала выступать надежным показателем общества в целом. Ее преувеличенные реакции и действия — не просто канарейки в наших угольных шахтах, но зачастую и экстремальные версии того, что является или скоро станет нормой. Блевота попала в центр внимания подростков не только как развлечение, но и как навязчивая идея: как преобладающее психологическое расстройство молодых девушек в технологически развитых странах. Булимия — реакция как буйная, так и разумная: что еще остается в этом обществе, как не блевать?
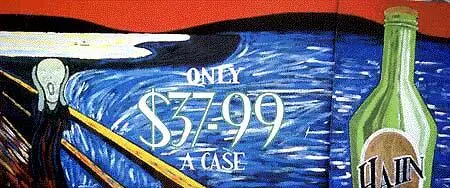
Последние двадцать пять лет те обитатели Первого Мира, которые не бедны, пребывают в осаде армий производства. Если говорить только об искусстве, то на полках музыкальных магазинов — сотни тысяч компакт–дисков; видео–магазин у меня на углу предлагает десять тысяч фильмов; мое местное телевидение вещает по семидесяти каналам; «Справочник американских поэтов» включает семь тысяч имен — и все они, вроде бы, живы и печатаются; существует веб–сайт, продающий миллион новых книг и еще четыре миллиона букинистических изданий; число художественных галерей, танцевальных и музыкальных трупп в любом крупном городе вдохновляет лишь на то, чтобы остаться дома и созерцать пустоту.
Мне как–то раз понадобилась информация об одном писателе, скончавшемся десять лет назад: в библиотеке оказалось двести полноформатных критических исследований его творчества и тысячи статей; поиск в Интернете показал 7000 веб–сайтов, где его имя упоминается. Я решил обратить свое любопытство на что–нибудь другое и попытался припомнить кого–то, кто оказался бы забыт совершенно.
Одним из результатов этого излишества во всем становится то, что если вы — фанатик чего–либо, скажем, поэзии или кино, то более чем вероятно, что ваш соратник по энтузиазму не читал или не видел того, что читали или видели вы. Вам с ним не о чем говорить. Такая нехватка совместного знания или общей территории, не «традиции», но ощущения современности, того, что производится в данную минуту, платформы, которую можно было бы защищать, видоизменять или которой можно было бы противостоять, — беспрецедентна. Вероятно, это единственное, если не считать технических примочек, и оказывается сейчас подлинно новым.
В искусстве это означает, что иметь какое бы то ни было влияние практически невозможно. Первое издание «Бесплодной земли» было напечатано тиражом всего 500 экземпляров, но книга преобразила поэзию на многих языках и стала известна всем читателям современной поэзии, хвалили они ее или хулили. Сейчас вообразить такое нельзя: последней книгой, оказавшей немедленное воздействие на всю мировую литературу, стал роман «Сто лет одиночества», а произошло это тридцать лет назад, когда Век Массового Размножения еще не наступил.
Для создателя искусства это также означает, что производство подразумевает сознательный отказ от потребления, хоть и временный — для того, чтобы высокомерно объявить о своем праве или необходимости церемонно поместить собственный крохотный листочек в эти джунгли. В массе населения ощущение беспомощности среди размножающегося человечества и его продуктов помимо всего прочего привело установлению групповой самобытности — она служит не только утверждением сообщества и себя в распадающихся традиционных социальных блоках, но и способом, хоть и неявным, удержать собственный потребительский интерес в человеческих масштабах. Приверженность религиозным учениям в их наиболее строгих формах аккуратно расчленяет большую часть всего мира на приемлемое и табу.
Монолитные сторонники этнической или сексуальной тождественности могут удовольствоваться работой только своих союзников и бесстыдно презреть всех остальных. Намереваясь (в своих конструктивных аспектах) стереть наихудшие формы провинциализма, групповые тождества взыскуют убежища нового провинциализма космополитизированного мира: мечты об упорядоченной и сосредоточенной жизни, где человек знает, что именно он хочет знать и познавать.
А мы, все остальные, можем лишь набивать себе брюхо, блевать и набивать себе брюхо снова. Это не пиршественная блевота римлян, служившая неким ритуалом — демонстрацией благосостояния или власти посредством всевозможнейших расточительств. Это стыдливая блевота, блевота обжоры, которая, быть может, и стала символом эпохи.
Читать дальше