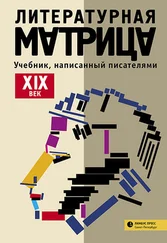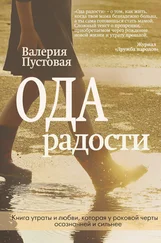Можно было бы сказать, что Аствацатуров в «Скунскамере» завис между блогом и традиционной литературой: связную историю рассказывать не научился, а энергетику непосредственного, как в блоге, высказывания убрал, затушил прошлым. Загвоздка в том, что непосредственного высказывания у него никогда и не было. Аствацатуров еще не ступил на свою «голую землю», ему нечего возделывать — он образован, дерзок, у него точная литературная интуиция и обретенный статус медийной персоны, однако ему пока не о чем писать. Рассуждения занимают в его прозе место опыта, байки о знакомых — непосредственных впечатлений, образы детства — картины будней. Филологу еще есть чему поучиться у блогера.
Грань между литературой и блогом остро ощущается сегодня, когда издание книги все еще веха на пути писателя. Но что если очередная техническая революция довершится и все искусства переместятся в цифровое пространство, оставив аналоговый мир на попечение декоративно-прикладного дизайна? Тогда роман окончательно уравняется в правах с блогом, который станет еще одним литературным жанром. Соединяющим в себе черты философской эссеистики и монодрамы, журнальной колонки и новостного сообщения. А конкуренция традиционной литературы и электронного дневника покажется мелкой по сравнению с боем за подписчиков, который развяжется между мультимедиаблогерами и текстовиками.
Пока же можно сказать, что мутационные процессы в литературе: распад цельного повествования, гибель героя, фрагментацию картины мира — блог только доводит до конца. Но что — кончается?
Наша способность воспринимать всерьез кого-то, кроме себя. Навык глубокого погружения в одну тему. Привычка доделывать, как дочитывать, до логической точки. Представление об уникальности писательского дара.
Словесность как способ осмысления мира и личности вряд ли погубит электронная эпоха. Но очень хотелось бы знать, какими покажутся читателю, воспитанному на блоголитературе, безусловные шедевры традиционного повествования. Хватит ли у него дыхания, чтобы прочесть «Войну и мир», — или существование героев, которые живут, думают, верят и любят дольше, чем это теперь принято, вызовет только ревнивое недоумение?
(Опубликовано в журнале «Октябрь». 2011. № 12)
Богородица на пне и другие фрески
Елена Крюкова
Надоело, но без этого не начать: скандально известный “Русский Букер”-2010 отразил не только заблуждения экспертной среды, но и много не осознаваемой ею правды. Сделанный выбор был сродни чистосердечному признанию, после которого человек наконец освобождается от необходимости притворяться не тем, кто он есть. Давайте поддержим ославленное жюри и вытащим Колядину из-под парты, сознавшись, что в последнее время многим литературно образованным людям полюбились наивное искусство, простые житейские ситуации, веселые байки, авторы, пышущие удовольствием от жизни и верой в успех, и — да, что-то за всем этим доброе и большое: может, семья, может, старинная легенда, а то и Бог.
Что именно выбрало и чем пренебрегло жюри, становится особенно ясно, если сравнить роман Колядиной не с коллегами по шорт-листу, а с куда более родственным романом из длинного списка. Любой, кто прочтет “Серафима” Елены Крюковой (теперь изданного в “Эксмо”) после “Цветочного креста” Елены Колядиной, проникнется еще большим недоумением к итогам букеровского сезона.
Задним умом обнаруженные достоинства романа Колядиной — религиозное высказывание и языковой эксперимент — роман Крюковой легко перетягивает на себя.
Колядина ставит нравственно-религиозный опыт: злой разум попа-начетчика тщится убить живую душу прихожанки, которая отрекается от мирского по его указаниям, но святой становится им вопреки. Антиклерикализм, проповедь внутреннего Бога, традиционно-русское противопоставление книжного ума и живой совести, исполненные в декорациях XVII века, — с пафосом автора нельзя не согласиться, но он направлен острием в прошлое, мимо современного общества и современной церкви, и потому, в обычаях популярного чтива, не мешает услаждаться эмоциональным и юмористическим зарядом романа.
Куда радикальнее в идейном плане крюковский роман “Серафим”. В основе его тоже лежит душещипательная история о сомнительном священнике и его чистой душой прихожанке, но их преступная любовь — скорее повод к развертыванию картины постсоветского общества и размышлениям о месте Бога в жизни современного человека. Пятую часть романа Крюковой занимает настоящий литературно-религиозный эксперимент, куда там вычитанным в старинном исповедальном каноне скабрезностям: автор представляет нам рукописную “книгу” отца Серафима, составленную из его мучительных, но прямых высказываний о вопросах и судьбе христианской веры.
Читать дальше
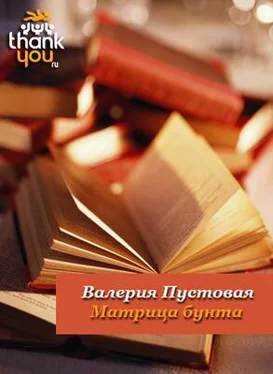

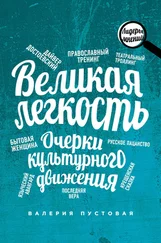
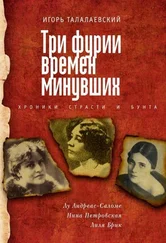
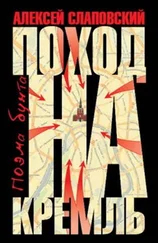
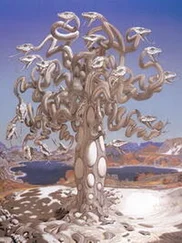

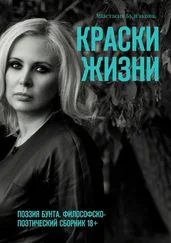

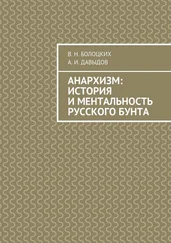
![Мак Рейнольдс - Фактор бунта. Галактический орден доблести [сборник]](/books/393302/mak-rejnolds-faktor-bunta-galakticheskij-orden-do-thumb.webp)