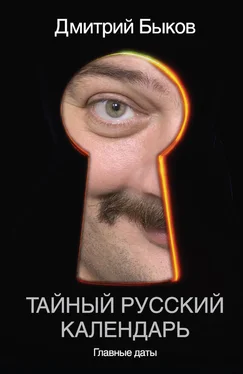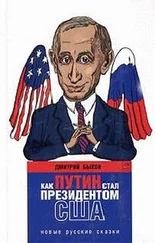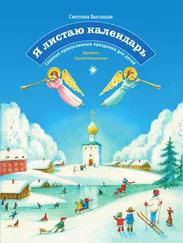В рассказе этом два эпизода, два воспоминания о встречах с настоящей красотой, разной, кстати, — сначала классическая и почти грозная красота шестнадцатилетней армянки, потом неправильная, небрежная, порхающая красота русской девушки на станции; но оба раза герой испытывает одно чувство, слишком нам всем знакомое и описанное у Чехова вот так: «Не желания, не восторг и не наслаждение возбуждала во мне Маша, а тяжелую, хотя и приятную, грусть. Эта грусть была неопределенная, смутная, как сон. Почему-то мне было жаль и себя, и дедушки, и армянина, и самой армяночки, и было во мне такое чувство, как будто мы все четверо потеряли что-то важное и нужное для жизни, чего уж больше никогда не найдем».
Чехову — не только его лирическому герою, но автору — всех жаль и себя жаль: что-то потеряли и не найдем. И отсюда странное ощущение, которое владеет любым читателем Чехова — по крайней мере читателем, который хоть что-то слышит: почему, допустим, именно чеховская проза так утешает в депрессии? Елена Иваницкая когда-то первой сформулировала этот парадокс: Чехова считают мрачным, чуть ли не депрессивным, а ведь в депрессии вы схватитесь именно за него, он покажется вам утешительней почти всех современников и уж точно всех потомков. Чтобы читать Толстого, нужно и самому быть в «состоянии силы», Толстой нужен здоровому больной в его мире теряется, ему эти наслаждения так же недоступны, как гимнастика калеке. Достоевский не утешает, не лечит, а растравляет рану: ведь резонанс нашего несчастья с чужим почти никогда не исцеляет, а только усугубляет боль. И у нас все плохо, и у всех все страшно. Глупости, что можно кого-то утешить рассказом о чужих проблемах: это годится только для людей жестоких и завистливых, кого действительно утешает чужое горе. Утешает Чехов — но не потому, что жизнь его героев так уж похожа на нашу собственную. Он целителен именно потому, что каждая его строчка намекает на огромное и прекрасное пространство, открывающееся за жизнью: ведь и Лаптев, и Лаевский, и анонимный рассказчик из «Рассказа неизвестного человека», и Андрей из «Трех сестер», и Лидия из «Дома с мезонином» смешны, противны или жалки именно потому, что рядом есть незаметный, но мощный источник света. Мы все время сравниваем их с чем-то, чего почти не видим, но что постоянно рядом; собственно, только этот источник и подсвечивает всю картину. Как Чехов это делает, с помощью какой незаметной оценочной лексики устанавливает посреди рассказа эту незримую шкалу — вопрос особый, в этом и тонкость мастерства, хотя иной раз деталь у него торчит и кричит: «Я деталь, я деталь!» В лучших, однако, образцах все сделано ювелирно, и, погружаясь в душный мир «Анны на шее» или даже «Каштанки», мы ощущаем эту духоту лишь по контрасту с бесконечным, безграничным пространством, постоянно напоминающим о себе. Так в приморском городе за домами чувствуется море — и все поверяет своим величием. Может быть, источник этой манеры в том, что Чехов вырос в приморском городе: Таганрог на море стоит, а по соседству с морем совсем иначе смотрится вывеска на отцовской лавке «Мыло и другие колониальные товары».
Пространство — вообще ключевая чеховская тема, и если есть термин «агорафилия» — любовь к открытому пространству, к большому, разомкнутому миру, — то ему это свойство присуще в высочайшей степени, как никому другому. Об этом «Степь» — не просто поэтичнейшее, но счастливейшее из его творений: как хорошо там, где нет стен! И в метафорах его, в самых абстрактных рассуждениях огромную роль играет пространство. Скажем, рассуждает он о религии — и пишет, что между верой и неверием в Бога лежит еще огромное поле (и, собственно, на этом поле происходит действие большинства его сочинений); думаю, что и вся сахалинская поездка понадобилась ему не затем, чтобы встряхнуться, и не затем даже, чтобы утолить жажду подвига, а попросту затем, чтобы вылечиться пространством от московской скуки и тесноты. Сам он не просто так был доволен этим опаснейшим странствием («Дай Бог всякому так ездить»). Именно после этой поездки ему стал очевиден масштаб страстей и страстишек, которыми томились «московские гамлеты» (о, какой убийственный у него рассказ об этом — «В Москве», какой плевок в лицо всем тем, кто считал себя его героями, а его — своим писателем! Какая ненависть ко всем, кто смеет скучать — ничего не зная, не видя, не умея, никого не замечая вокруг себя!). Именно после Сахалина он заметил, что «Крейцерова соната» показалась ему смешной и надуманной, а ведь прежде он обсуждал ее всерьез. Чехов боится и ненавидит тесноту, клаустрофобия у него читается повсюду, потому ему ненавистны и квартиры, захламленные вещами, и запертые палаты, и любые рамки готовых теорий. Стены всех жилищ, декорации всех пьес трещат под напором пространства; ни одна готовая максима не выдерживает проверки реальностью. Интересно, кстати, что у большинства его последователей — у Беккета, скажем, — ощущения этого пространства нет, или оно очень уж глубоко. Все заперты в клетках, без надежды, без выхода, — в клетке собственного тела или собственного взгляда на вещи. Чехов же каждому подбрасывает выход, иногда носом в него тычет, как Белолобого — «Ходи в дверь! Ходи в дверь!». Не идут. Лезут в углы, в тень уродливых ваз из «Невесты», в духоту квартирки из «Учителя словесности», в салон Туркиных.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу