Рубинштейн пишет про поражающую взрослых свежесть детского словоизъявления: «Они как-то вдруг формулируют то, что должны были бы сформулировать мы сами, если бы умели». Получилось, что это он — про себя, он именно так умеет, он за нас старается.
С детски равным вниманием и сочувствием сопрягаются музей и помойка: андерсеновское внимание к вещному миру и андерсеновская способность одушевлять неодушевленные предметы.
С нежностью описан сортир, по недостатку жилплощади превращенный в кабинет, в котором почерпнуто (каламбур случаен) так много разумного, доброго и пр.: «Настольные книги читаются там, в местах, где нет стола, но есть покой и воля». Это стихи вообще-то: одна строка — четырехстопный амфибрахий, другая — шестистопный ямб. Пробило-таки поэта на поэзию: и то сказать — предмет высокий.
Щедро и походя Рубинштейн разбрасывает то, что другой бы любовно мусолил страницами. Ему не жалко, и в этой расточительности — расчет профессионала.
Характерно подано то, от чего хохочешь и выбегаешь. Рассказ врача о записи в сельской больнице: «Укус неизвестным зверем в жопу». Начало романа, написанного девятилетней девочкой: «Герцогиня N сошла с ума после того, как узнала о том, что ее дочь незаконнорожденная». Бомж, которого прогоняла буфетчица, грозя вызвать милицию, «повернулся лицом к очереди, развел руками и сказал: «Нонсенс!» О себе: «Кассирша в нашем супермаркете огорошила меня вопросом: «Молодой человек! Пенсионное удостоверение у вас при себе?»
Самое уморительное отдано другим — вряд ли потому, что оно в самом деле подслушано, и автор поступает благородно, не присваивая чужие шутки. Похоже, часто похоже, что шутки все же его собственные, но он умно и дальновидно вкладывает их в уста персонажей, тем самым создавая животрепещущую панораму, а не фиксируя отдельный взгляд из угла. Мелкое авторское тщеславие отступает перед большой писательской гордыней. Тут высший пилотаж: понимание того, что пересказанная чужая реплика — твоя, если ты ее вычленил из людского хора, запомнил, записал и к месту привел. Твоя и книжная цитата с какой угодно добросовестной сноской — если ты приподнял ее на пьедестал своего сюжета. В подслушанной речи и прочитанной книге — не больше отчуждения, чем в своих снах или мимолетных мыслях: это все твое. «Мой слух устроен так, что он постоянно вылавливает из гула толпы что-нибудь поэтическое», — говорит Рубинштейн. Все-таки, наверное, не совсем так: его слух ловит и преображает услышанное в поэтическое — потому что «любой текст в соответствующем контексте обнаруживает способность прочитываться как объект высокой поэзии». Потому что «жизнь, вступая время от времени в схватку с жизнью и неизменно ее побеждая, сама же литературой и становится». Это и есть случай из языка. Случай Рубинштейна.
Описывая свои школьные годы, он замечает: «Ученичок я был еще тот. Нет, учился-то я как раз неплохо — не хуже многих. Но я (курсив мой) вертелся ».
И, как видим, продолжает — это точное описание способа познания жизни. Озирая мир, благодаря выбранному методу, на все 360 градусов, Рубинштейн, невзирая ни на что, все-таки вертится!
В книге 62 главы плюс Введение равняется 63 фрагмента. Охват тем — широчайший: писательское призвание, надписи на заборах, актерство и притворство, тоска по СССР, автомобиль глазами пешехода, еврейство, смысл Нового года, эрозия языка, ксенофобия, попрошайки, природа страха, пьяные на улицах, футбол как провокатор агрессивности, страшная и заманчивая Москва, вещи в нашей жизни, запахи, коммуналка, китч, храп, интеллектуальная роль сортира, «свой путь» России. Сколько набралось навскидку? 21 — всего-то треть.
При этом Рубинштейну словно мало разнообразия в его дробной, многофасеточной исповеди сына века. Он все не унимается, смотрит, запоминает, перечисляет. Перечни жизни — одно из его искуснейших фирменных изделий. Ладно, когда речь о весне, но вот — храп: «Хлопотливые будни ночных джунглей, грозное рычание разгневанного океана, широкомасштабное танковое сражение, встревоженная ночной грозой птицеферма, финальный матч мирового чемпионата по футболу, брачный дуэт кашалотов, шепот, робкое дыханье, трели соловья».
Эссенция, она же поэма; конспект, он же песня.
И тут же — мастер-класс элегантности письма и точности формулировок.
Емкие метафоры России изготавливаются из подручного (подножного) материала: «Если водка — воплощение всего человеческого, то лед — всего государственного».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
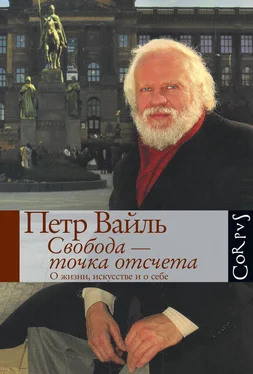
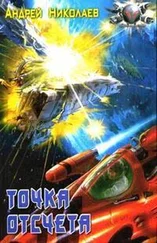


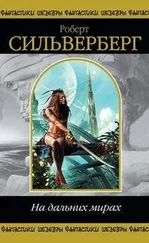
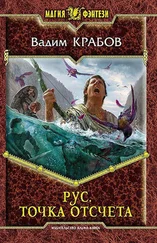


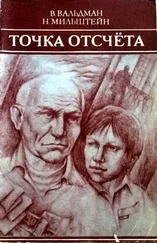
![Пётр Вайль - Картины Италии [litres]](/books/431865/petr-vajl-kartiny-italii-litres-thumb.webp)


