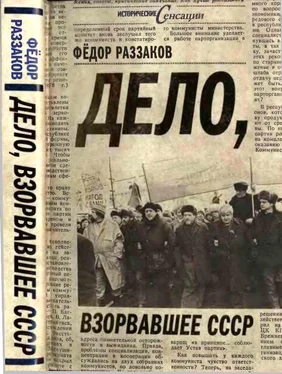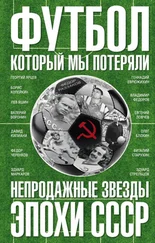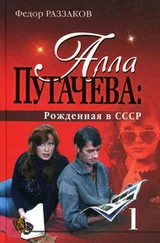Отметим, что в 1970-х общая ситуация с коррупцией в СССР усугубилась. С каждым годом количество уголовных дел, возбужденных по фактам взяточничества и должностных хищений в СССР росло. Так, в 1975 году эти цифры равнялись: 4039 (взятки) и 58 821 (должностные хищения), в 1976–4311 и 59 946, в 1977–4162 и 61 029, в 1978–4501 и 62 425, в 1979–5291 и 64 751. Та же ситуация наблюдалась и в Узбекистане. Правда, как и прежде, среди привлеченных к уголовной ответственности лиц по этим видам преступлений почти не было представителей высшей власти, поскольку судьбу их могла решать только Москва. А она редко трогала номенклатуру высшего звена, исходя из принципа «своих не обижать». Лишь иногда эта традиция нарушалась, но не потому, что кто-то во власти пытался изменить сложившуюся систему, а исключительно в силу клановых разногласий (как это было, к примеру, с делом «Океан»). Вот и упомянутое выступление Нордмана было, судя по всему, продиктовано тем же: попыткой Лубянки вмешаться в расклад сил между различными кланами. Однако Брежнев эту попытку не одобрил. В ноябре 1977 года Рашидов был награжден второй Звездой Героя Социалистического Труда (в честь 60-летия со дня рождения), а в марте следующего года Эдуард Нордман был отозван в Москву и шефом КГБ Узбекистана впервые за долгие годы стал местный кадр, но опять не из узбеков — армянин Левон Мелкумов (Мелкумян), бывший до этого первым заместителем Нордмана.
Конец 70-х в советской историографии принято называть «застоем». Хотя на самом деле это определение верно лишь отчасти — применительно к политической системе, где действительно царил определенный застой мысли и кадров. Что касается экономики, то она продолжала развиваться и рост ее составлял 2–4 %, что по западным стандартам вообще нормально. Как пишет историк А. Шубин:
«Суть понятия «застой» — не в прекращении развития. Это было общество со стабильной структурой. Чтобы уйти от эмоциональных оценок, можно назвать этот период равновесием, или стабильностью. Производство росло, благосостояние повышалось (правда, рост благосостояния переставал поспевать за ростом потребностей), но общество оставалось таким же, как и десять лет назад. Перемены были настолько медленны, что еле заметны глазу.
Стабильность советской системы времен застоя обеспечивалась ростом благосостояния большинства населения. Среднемесячная зарплата в 1980–1985 годах выросла с 168,9 до 190,1 рубля в месяц, а зарплата рабочих — со 182,5 до 208,5 рубля. Доход от подсобного хозяйства составил в 1980 году 7 % от общего дохода населения, в том числе у колхозников — 27,5 %, а в реальности, возможно, и больше. С добавлением различных выплат и льгот среднемесячная зарплата в народном хозяйстве возросла с 233 до 269 рублей. Уровень жизни населения можно замерить и иначе. Важный показатель, характеризующий качество жизни, — количество родившихся и умерших на 1000 человек. В 1975 году рождаемость составила 15,7, а смертность — 9,8. В 1985 году рождаемость продолжала расти и составила 16,6, а смертность — 11,3. В 2005 году рождаемость составила всего 10,2, а смертность — целых 16. По этим показателям (как и по многим другим) Российской Федерации далеко до СССР.
Разумеется, существовало и социальное расслоение. В 1980 году в СССР 25,8 % населения получали без учета льгот доход ниже 75 рублей, а 18,3 % — выше 150 рублей (в РСФСР уровень жизни был выше среднесоюзных показателей на 4,9–5,2 %). Таким образом, средние имущественные слои количественно преобладали, что характерно для развитого индустриального общества с социальным государством…»
Отметим, что во второй половине 1970-х цены в СССР стали несколько расти, однако этот рост не коснулся товаров первой необходимости. Еще в 1975 году Совет Министров пытался «раскрутить» Политбюро на повышение цен на все виды вин, на бензин, на некоторые сорта водки и все виды бальзама, повышения тарифа на такси, а также стоимости авиабилетов. Однако Брежнев наложил на это дело вето, справедливо посчитав, что подобное повышение выгодно лишь Госплану и Минфину, которые таким образом стремились свою бесхозяйственность, неумение руководить экономикой закрыть «добычей» 1–2 миллиардов рублей за счет повышения цен. «Вы этот миллиард хотите взять у собственного государства, у народа!», — заявил Брежнев руководителем Госплана и Минфина.
Между тем по мере роста доходов советских граждан, нарастал товарный дефицит. Он был вызван, в частности, тем, что предприятия, гонясь за прибылью, намеренно отказывались выпускать товары дешевого ассортимента, ориентируя свое производство на товары более дорогие, которых выпускалось значительно меньше. В итоге всем этих товаров не хватало. Но даже они сметались с прилавков в одночасье либо простыми покупателями (ведь их зарплаты постоянно росли), либо самими продавцами, которые использовали дефицит как внутреннюю «валюту» при взаиморасчетах с «нужными людьми».
Читать дальше